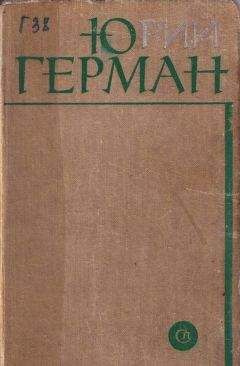Лапшину от этих похвал стало совестно и, не зная, что делать с собой, он деловито потушил и опять зажег настольную лампу.
- Смущается наш Иван Михайлович! - сказал Баландин, и Лапшин вдруг почувствовал, что смущается сам Прокофий Петрович и именно потому разговаривает несвойственным ему тоном, курит вдруг трубку и слишком много говорит, чего Лапшин не замечал за ним никогда.
Иван Михайлович стоял возле своего кресла и курил папиросу, пристально и спокойно разглядывая артистов зоркими ярко-голубыми глазами: многих он знал по кинокартинам, других видел в театре, третьих помнил в концертах. Но никто ему не нравился: ни красивый молодой человек, снявший широкополую шляпу и отиравший явно подбритый лоб платком; ни старуха с двойным подбородком и любезно-безразличными, уже потухающими глазами; ни еще один молодой, но уже сильно лысеющий человек, все время сладко кивающий яйцеобразной головой; ни тучный, нарочито благообразный пожилой мужчина в крагах и с тростью; ни молодая артистка с рыжими волосами, с очень белой шеей в каких-то блестках и ярко накрашенным ртом. Во всех этих людях было нечто нарочитое, подчеркнутое и раздражающее, такое, что заставило Лапшина с досадой подумать: "Зачем же вы все такие какие-то особенные?" И только одна женщина привлекла его внимание: она сидела сзади всех, и вначале он ее даже не увидел - так скромно по сравнению со всеми она была одета и так незаметно держалась: ни головой не кивала, не смеялась слишком громко, не говорила "удивительно", или "черт знает что!", или "невообразимо!". Она сидела за спиною старухи с двойным подбородком и, вытянув тонкую шею, следила за всем происходящим с испуганно-внимательным и в то же время мило-насмешливым выражением глаз. Она была в берете и в шубке из того пегого меха, про который принято говорить, что он тюлений, или телячий, или даже почему-то кабардинский, и который в дождливую погоду просто воняет псиной. Из-под собачьего воротника у нее выглядывал голубой в горошину платочек, и этот платочек вдруг очень понравился Лапшину.
Когда Прокофий Петрович неуверенно-свободным голосом стал рассказывать о преступлениях годов нэпа и сказал: "Это жуткая драма", - артистка в берете, так же, как Лапшин, от неловкости опустила глаза, а потом усмехнулась, словно поняв и простив Баландина.
Покуривая и слушая начальника, Лапшин смотрел на артистку, видел ее круглые карие глаза, вздернутый нос и думал о том, что если ему придется говорить, то говорить он будет ей и никому другому, разве что еще низенькому старику с большой нижней челюстью, который сидел рядом с ней и порой что-то ей шептал, вероятно смешное, потому что каждый раз она улыбалась и наклоняла голову. "Он с ней вдвоем против всех, - с удовольствием подумал Лапшин. Злой, наверное, старикан!" И он вспомнил фамилию старика, и вспомнил, что видел его в роли Егора Булычева, и вспомнил, как хорошо играл старик.
Наконец Баландин попрощался и ушел.
- Товарищ Лапшин обеспечит вам помощь и руководство, - сказал он в дверях, - прошу адресоваться к нему.
Артисты по-прежнему сидели у стен. Лапшин потушил окурок, сел в свое кресло и негромко, глуховатым баском спросил:
- Я не совсем понимаю, чем могу вам помочь. Может быть, вы расскажете?
Тогда взял слово молодой артист с очень страдальческим и изможденным лицом и стал объяснять содержание пьесы, которую театр ставил. Насколько Лапшин мог понять, пьеса на протяжении четырех действий рассказывала о том, как перестраивались вредители, проститутки, воры, взломщики и шулера числом более семнадцати - и какими хорошими людьми сделались они после перестройки. Как ни внимательно вслушивался Лапшин в запутанную и шумную речь артиста, он так и не понял, когда же и отчего перестроились все эти люди. Кроме того, артист рассказывал с большим трудом и стесняясь - с ним происходило то, что происходит с каждым непрофессионалом, рассказывающим профессионалу, - он путался, неумело произносил жаргонные слова и часто повторял: "Если это вообще возможно". Очень раздражал Лапшина также и полупонятный лексикон артиста, все эти - "на сплошном наигрыше", "наив", "крепко сшитый эпизод", "обаяние", "формальные искания завели нас в тупик, и мы пошли по линии" и прочее в таком же роде.
- Понятно! - сказал Лапшин, хотя далеко не все ему было понятно. - Но я вас должен предупредить, что вы не очень правильно ориентированы...
Он поморщил лоб, взглянул на артистку в береге и на старика и понял, что они довольны его тоном и что они ждут от него каких-то очень важных для них слов. У артистки глаза стали совсем круглыми, а старик с ханжески скромным видом жевал губами. Глядя на старика, Лапшин продолжал:
- Уж не знаю, откуда эти идейки берутся, но они неверны. Вот я по вашим словам так понял, что все эти воры, и проститутки, и жулики с самого начала чудные ребята и только маленечко ошибаются. Это не так. Это неверно. Вор в Советском государстве - не герой. Это в капиталистическом государстве могут найтись... люди (он хотел сказать "дураки", но постеснялся и сказал "люди")... люди, - повторил он, - которые считают, что вор против собственности выступает и потому он герой, а у нас иначе. Ничего в этом деле ни героического, ни возвышенного нет, - сказал Лапшин, раздражаясь, поверьте мне на слово, я этих людей знаю. Вот у нас в области один дядя Пава украл из колхоза семь лошадей. Мужики из колхоза разбрелись и говорят: "Не были мы колхозные - и лошади были, а стали колхозные - и лошадей нет". Я дядю Паву поймал и посадил в тюрьму, и дядя этот, оказалось, работал не от себя, а от целой фирмы. Сознался. Воры - народ неустойчивый, их легко можно купить. Вот Паву-то кое-кто и купил. А потом он кое-кого!
- Пьеска прелестная, - вдруг сказал старик, - необыкновенно грациозно написанная и колоритная, и все такое, и даже проблемная, в том смысле, что там жулики куда интереснее порядочных людей...
Он закашлялся и сказал лживо-взволнованным голосом:
- Побольше бы таких пьес!
Рыжая актриса огрызнулась, и Лапшин опять подумал, что тут происходит бой.
- Артист представляет собою комок нервов! - вдруг воскликнул молодой человек с подбритым лбом. - Артист все время находится в самой гуще жизни, а писатель фантазирует, сидит, понимаете, в своем красивом далеке и выдумывает, а мы отвечай.
- Почему же это выдумывает? - возразил старик с челюстью. - Ничего он не выдумывает, он в данном случае неправильно решает вопрос. Проблема не туда повернута. Восторженность захлестнула.
Они надолго заспорили между собою, и Лапшину сделалось скучно. Как бы занимаясь своим делом, для себя, он открыл сейф и вынул старый альбом годов нэпа. Перелистывая страницы, он заметил, что артистка в собачьей шубке подошла к нему. Он переложил еще лист и услышал голос:
- Можно мне взглянуть?
Иван Михайлович кивнул.
- Она похожа на провинившуюся курицу! - вдруг тихо, почти шепотом сказала артистка. - Видите?
На листе было несколько фотографий, но Лапшин сразу угадал, кто именно тут "провинившаяся курица". Это была аферистка Сайнер, провалившая всех своих дружков.
- Знаете, от нее все ждут, что она снесется, а она и не снеслась!
Сравнение было таким живым, метким и смешным, что Иван Михайлович с удовольствием засмеялся.
- Точно! - вглядываясь в куриное лицо Маргариты Сайнер, подтвердил он. - Это вы замечательно сказали...
- А ведь многие люди чем-то на зверушек похожи, - тоже смеясь, ответила актриса, - разве не правда?
Но в это мгновение спор внезапно затух, и артисты обступили Лапшина и его альбом.
- А наша Катерина свет-Васильевна уже подобралась к самому интересному, - ласково произнесла старуха с двойным подбородком и воскликнула: - Товарищи, вот кладезь премудрости - преступные типы...
Все столпились вокруг альбома, посыпались замечания, остроты, требования "зарисовать", "перефотографировать", "достать для театра в собственность". Одни утверждали, что здесь все "утрировано", другие говорили, что это и есть "сама жизнь".
- Дайте мне меня! - требовал артист с подбритым лбом. - Я хочу видеть себя! Имею я на это право? Подвиньтесь же, Викентий Борисович, просто невозможно.
- Вы бываете у нас в театре? - спросила Катерина Васильевна Лапшина.
- Редко.
- Заняты очень?
- Бывает, занят...
Она помолчала и сказала с расстановкой, словно взвешивая слова:
- Наш театр сейчас переживает кризис.
- Что?
- Кризис! - пояснила Катерина Васильевна. - Так называется большая склока, которую мы у себя развели!
Засмеялась, и Лапшину опять стало смешно.
- Какая-то вы чудная! - произнес он. - Никогда не знаешь, что вы скажете в будущую минуту.
- Это и я сама не знаю! - ответила она. - Оттого мне и попадает часто.
- Балашова, почему вы не смотрите? - сердито осведомился тот, которого называли Викентием Борисовичем. - Здесь типичная ваша роль...
Катерина Васильевна заглянула в альбом и молча пожала плечами.