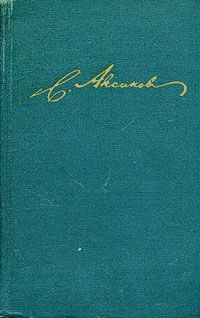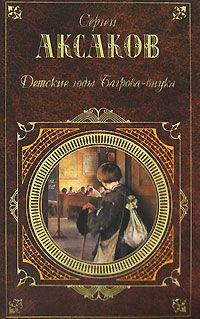Наконец пришло и это время: зазеленела трава, распустились деревья, оделись кусты, запели соловьи – и пели, не уставая, и день и ночь. Днем их пение не производило на меня особенного впечатления; я даже говорил, что и жаворонки поют не хуже; но поздно вечером или ночью, когда все вокруг меня утихало, при свете потухающей зари, при блеске звезд соловьиное пение приводило меня в волнение, в восторг и сначала мешало спать. Соловьев было так много, и ночью они, казалось, подлетали так близко к дому, что, при закрытых ставнями окнах, свисты, раскаты и щелканье их с двух сторон врывались с силою в нашу закупоренную спальню, потому что она углом выходила на загибавшуюся реку, прямо в кусты, полные соловьев. Мать посылала ночью пугать их. И тут только поверил я словам тетушки, что соловьи не давали ей спать. Я не знаю, исполнились ли слова отца, стало ли веселее в Багрове? Вообще я не умею сказать: было ли мне тогда весело? Знаю только, что воспоминание об этом времени во всю мою жизнь разливало тихую радость в душе моей.
Наконец я стал спокойнее, присмотрелся, попривык к окружающим меня явлениям, или, вернее сказать, чудесам природы, которая, достигнув полного своего великолепия, сама как будто успокоилась. Я стал заниматься иногда играми и книгами, стал больше сидеть и говорить с матерью и с радостью увидел, что она была тем довольна. «Ну, теперь ты, кажется, очнулся, – сказала она мне, лаская и целуя меня в голову, – а ведь ты был точно помешанный. Ты ни в чем не принимал участия, ты забыл, что у тебя есть мать». И слезы показались у ней на глазах. В самое сердце уколол меня этот упрек. Я уже смутно чувствовал какое-то беспокойство совести; вдруг точно пелена спала с моих глаз. Конечно, я не забыл, что у меня была мать, но я не часто думал о ней. Я не спрашивал и не знал, в каком положении было ее слабое здоровье. Я не делился с ней в это время, как бывало всегда, моими чувствами и помышлениями, и мной овладело угрызение совести и раскаяния, я жестоко обвинял себя, просил прощенья у матери и обещал, что этого никогда не будет. Мне казалось, что с этих пор я стану любить ее еще сильнее. Мне казалось, что я до сих пор не понимал, не знал всей цены, что я не достоин матери, которая несколько раз спасла мне жизнь, жертвуя своею. Я дошел до мысли, что я дурной, неблагодарный сын, которого все должны презирать. По несчастию, мать не всегда умела или не всегда была способна воздерживать горячность, крайность моих увлечений; она сама тем же страдала, и когда мои чувства были согласны с ее собственными чувствами, она не охлаждала, а возбуждала меня страстными порывами своей души. Так часто бывало в гораздо позднейшее время и так именно было в то время, которое я описываю. Подстрекая друг друга, мы с матерью предались пламенным излияниям взаимного раскаяния и восторженной любви; между нами исчезло расстояние лет и отношений, мы оба исступленно плакали и громко рыдали. Я раскаивался, что мало любил мать; она – что мало ценила такого сына и оскорбила его упреком… В самую эту минуту вошел отец. Взглянув на нас, он так перепугался, что побледнел: он всегда бледнел, а не краснел от всякого внутреннего движения. «Что с вами сделалось?» – спросил он встревоженным голосом. Мать молчала; но я принялся с жаром рассказывать все. Он смотрел на меня сначала с удивлением, а потом с сожалением. Когда я кончил, он сказал: «Охота вам мучить себя понапрасну из пустяков и расстроивать свое здоровье. Ты еще ребенок, а матери это грех». Ушатом холодной воды облил меня отец. Но мать горячо заступилась за наши чувства и сказала много оскорбительного и несправедливого моему доброму отцу! Увы! несправедливость оскорбления я понял уже в зрелых годах, а тогда я поверил, что мать говорит совершенную истину и что у моего отца мало чувств, что он не умеет так любить, как мы с маменькой любим. Разумеется, через несколько дней совсем утихло мое волнение, успокоилась совесть, исчезло убеждение, что я дурной мальчик и дурной сын. Сердце мое опять раскрылось впечатлениям природы; но я долго предавался им с некоторым опасением; горячность же к матери росла уже постоянно. Несмотря на мой детский возраст, я сделался ее другом, поверенным и узнал много такого, чего не мог понять, что понимал превратно и чего мне знать не следовало…
Между тем как только слила полая вода и река пришла в свою летнюю межень, даже прежде, чем вода совершенно прояснилась, все дворовые начали уже удить. Я сказал – все, потому что тогда удил всякий, кто мог держать в руке удилище, даже некоторые старухи, ибо только в эту пору, то есть с весны, от цвета черемухи до окончания цвета калины, чудесно брала крупная рыба, язи, головли и лини. Стоило сбегать пораньше утром на один час, чтоб принесть по крайней мере пару больших язей, упустив столько же или больше, и вот у целого семейства была уха, жареное или пирог. Евсеич уже давно удил и, рассказывая мне свои подвиги, обыкновенно говорил: «Это, соколик, еще не твое уженье. Теперь еще везде мокро и грязно, а вот недельки через две солнышко землю прогреет, земля повысохнет: к тем порам я тебе и удочки приготовлю…»
Пришла пора и моего уженья, как предсказывал Евсеич. Теплая погода, простояв несколько дней, на Фоминой неделе еще раз переменилась на сырую и холодную, что, однако ж, ничему не мешало зеленеть, расти и цвести. Потом опять наступило теплое время и сделалось уже постоянным. Солнце прогрело землю, высушило грязь и тину. Евсеич приготовил мне три удочки: маленькую, среднюю и побольше, но не такую большую, какие употреблялись для крупной рыбы; такую я и сдержать бы не мог. Отец, который ни разу еще не ходил удить, может быть потому, что матери это было неприятно, пошел со мною и повел меня на пруд, который был спущен. В спущенном пруде удить и ловить рыбу запрещалось, а на реке позволялось везде и всем. Я видел, что мой отец собирается удить с большой охотой. «Ну, что теперь делать, Сережа, на реке? – говорил он мне дорогой на мельницу, идя так скоро, что я едва поспевал за ним. – Кивацкий пруд пронесло, и его не скоро запрудят; рыбы теперь в саду мало. А вот у нас на пруду вся рыба свалилась в материк, в трубу, и должна славно брать. Ты еще в первый раз будешь удить в Бугуруслане; пожалуй, после Сергеевки тебе покажется, что в Багрове клюет хуже». Я уверял, что в Багрове все лучше. В прошлом лете я не брал в руки удочки, и хотя настоящая весна так сильно подействовала на меня новыми и чудными своими явлениями – прилетом птицы и возрождением к жизни всей природы, – что я почти забывал об уженье, но тогда, уже успокоенный от волнений, пресыщенный, так сказать, тревожными впечатлениями, я вспомнил и обратился с новым жаром к страстно любимой мною охоте, и чем ближе подходил я к пруду, тем нетерпеливее хотелось мне закинуть удочку. Спущенный пруд грустно изумил меня. Обширное пространство, затопляемое обыкновенно водою, представляло теперь голое, нечистое, неровное дно, состоящее из тины и грязи, истрескавшейся от солнца, но еще не высохшей внутри; везде валялись жерди, сучья и коряги или торчали колья, воткнутые прошлого года для вятелей. Прежде все это было затоплено и представляло светлое, гладкое зеркало воды, лежащее в зеленых рамах и проросшее зеленым камышом. Молодые его побеги еще были неприметны, а старые гривы сухого камыша, не скошенного в прошедшую осень, неприятно желтели между зеленеющих краев прудового разлива и, волнуемые ветром, еще неприятнее, как-то безжизненно шумели. Надобно прибавить, что от высыхающей тины и рыбы, погибшей в камышах, пахло очень дурно. Но скоро прошло неприятное впечатление. Выбрав места посуше, неподалеку от кауза, стали мы удить – и вполне оправдались слова отца: беспрестанно брали окуни, крупная плотва, средней величины язи и большие лини. Крупная рыба попадалась все отцу, а иногда и Евсеичу, потому что удили на большие удочки и насаживали большие куски, а я удил на маленькую удочку, и у меня беспрестанно брала плотва, если Евсеич насаживал мне крючок хлебом, или окуни, если удочка насаживалась червяком. Я никогда не видел, чтоб отец мой так горячился, и у меня мелькнула мысль, отчего он не ходит удить всякий день? Евсеич же, горячившийся всегда и прежде, сам говорил, что не помнит себя в таком азарте! Азарт этот еще увеличился, когда отец вытащил огромного окуня и еще огромнейшего линя, а у Евсеича сорвалась какая-то большая рыба и вдобавок щука оторвала удочку. Он так смешно хлопал себя по ногам ладонями и так жаловался на свое несчастье, что отец смеялся, а за ним и я. Впрочем, щука точно так же и у отца перекусила лесу. Мне тоже захотелось выудить что-нибудь покрупнее, и хотя Евсеич уверял, что мне хорошей рыбы не вытащить, но я упросил его дать мне удочку побольше и также насадить большой кусок. Он исполнил мою просьбу, но успеха не было, а вышло еще хуже, потому что перестала попадаться и мелкая рыба. Мне стало как-то скучно и захотелось домой; но отец и Евсеич и не думали возвращаться и, конечно, без меня остались бы на пруду до самого обеда. Собираясь в обратный путь и свертывая удочки, Евсеич сказал: «Что бы вам, Алексей Степаныч, забраться сюда на заре? Ведь это какой бы клев-то был!» Отец отвечал с некоторою досадой: «Ну, как мне поутру». – «Вот вы и с ружьем не поохотились ни разу, а ведь в старые годы хаживали». – Отец молчал. Я очень заметил слова Евсеича, а равно и то, что отец возвращался как-то невесел.