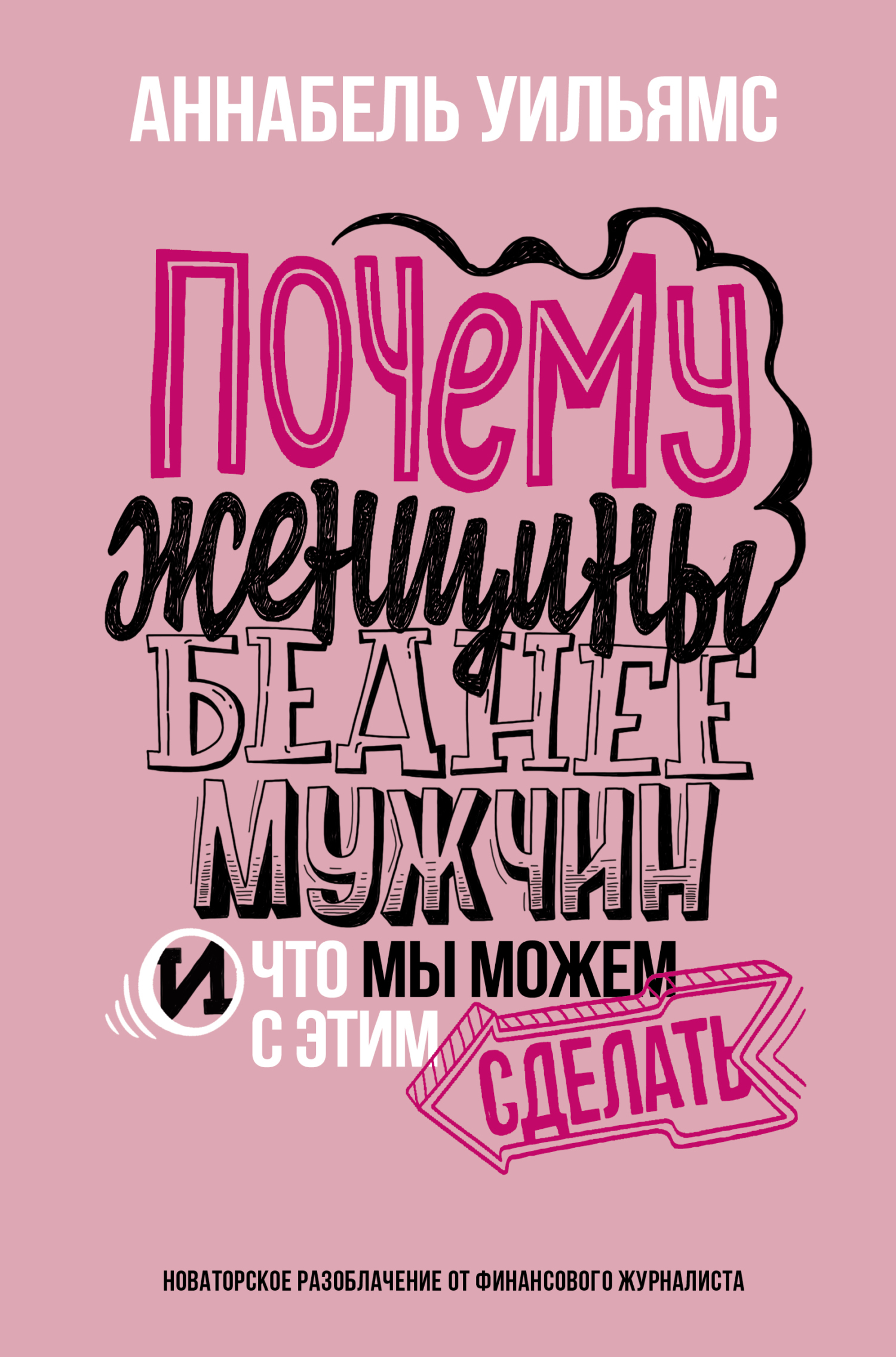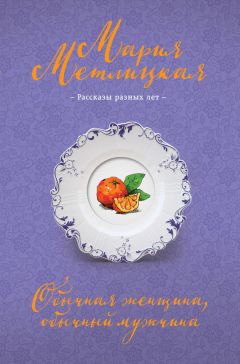и звучало, ужасающие свисты и завывания мне слышались; что-то тяжкое, косматое давило грудь, врывалось в губы, и я не мог двинуть разбитых членов, не мог поднять руки, чтобы перекреститься… Я кончался, но с неизъяснимым мучением души и тела. Судорожным последним движением я сбросил с себя тяготящее меня бремя: это была медвежья шуба…
Где я? Что со мной? Холодный пот катился по лицу, все жилки трепетали от ужаса и усилия. Озираюсь, припоминаю минувшее… И медленно возвращаются ко мне чувства. Так, я на кладбище!.. Кругом склоняются кресты; надо мной потухающий месяц; подо мной роковая воловья шкура. Товарищ гаданья лежал ниц в глубоком усыплении… Мало-помалу я уверился, что все виденное мною был только сон, страшный, зловещий сон!
«Так это сон?» — говорите вы почти с неудовольствием. Други, други! неужели вы так развращены, что жалеете, для чего все это не сбылось на самом деле? Благодарите лучше Бога, как возблагодарил его я, за сохранение меня от преступления. Сон? Но что же иное все былое наше, как не смутный сон? И ежели вы не пережили со мной этой ночи, если не чувствовали, что я чувствовал так живо, если не испытали мною испытанного в мечте, — это вина моего рассказа. Все это для меня существовало, страшно существовало, как наяву, как на деле. Это гаданье открыло мне глаза, ослепленные страстью; обманутый муж, обольщенная супруга, разорванное, опозоренное супружество и, почему знать, может, кровавая месть мне или от меня — вот следствия безумной любви моей!!
Я дал слово не видеть более Полины и сдержал его.
М. П. Погодин
ВАСИЛЬЕВ ВЕЧЕР [24]
Весь левый низменный берег Оки, почти от устья Москвы-реки, чрез Клязьму, до самой Волги, покрыт густыми сосновыми лесами, в иных местах верст на семьдесят шириною. Леса сии мало-помалу редеют с того времени, как московский топор, добравшись до них, начал просекать сквозные дороги чрез их заповедные чащи; но лет за пятьдесят, за шестьдесят много еще было таких, куда человек не ступал никогда ногою и даже ворон, по старинной пословице, костей не занашивал. Вечерняя темнота не рассветала в них ни летом, ни зимою; и лишь в березовые рощи, рассеянные кое-где между непроницаемыми соснами и елями, прокрадывались лучи дневные. Тишина глубокая. Иногда только ветер гудел в сокровенной середине, силясь напрасно прорваться сквозь плотные частые преграды; и изредка слышен был медведь, который, взлезая на сосну за бортным медом, царапал своею широкою лапой по древесной коре, или волк, который, почуя дальнюю падаль, скакал по земле, покрытой иглами. Но среди сих дремучих боров есть многие болота, покрытые серым мохом и густою осокою, приволье диких птиц всякого рода, широкие озера, богатые рыбою; и здесь-то исстари находились деревни, основанные охотниками, угольниками и предприимчивыми хозяевами, кои селились в этой глуши, надеясь собирать больший доход с наследственных своих угодий.
У одного из них, премьер-майора Захарьева, который переехал из Москвы в Муромскую деревню с тоски по умершей жене, а остался по привычке и страсти к охоте, затеялось игрище в Васильев вечер для единственной дочери, девятнадцатилетней девицы. Все соседи, ближние и дальние, почти за неделю собрались к богатому и радушному хозяину; и в назначенный день, чуть только смерклось, между тем как старики в особых комнатах сидели за отменным пенником [25] и густыми наливками, хвастаясь друг перед другом своими подвигами, нетерпеливая молодежь начала святочные игры; запели песни, заплели хороводы, пустились вприсядку. Поднялся шум, крик, смех, раздались веселые плески. Жмурки, гулючки, жгуты, носки [26] следовали одни за другими, прерываясь только общим хохотом, когда кто-нибудь второпях ушибался до крови об угол, или падал стремглав на подставленные ноги, или получал удар побольнее в спину, от которого трещали зубы и из глаз сыпались искры. Ближе к ночи начались гадания, любимая забава взрослых девушек. Они принялись топить олово, выливать в холодную воду и в застывающих образах читать свою участь. Другие выставлялись лицом за окно, накликая суженого: «Шени меня, мани меня лисьим хвостиком», — и мягкое прикосновение сулило им богатство, так как жесткое — бедность. Третьи выбегали на мороз и всем телом ложились на рыхлый снег, чтоб по замерзлому отпечатку судить о доброте и лихости будущих мужьев своих. Иные, наконец, бегали слушать на паперть, под церковное окно, иные на мельницу, на погребицу, к закормам, на гумно. Всего занимательнее было толкование предвещаний, когда девушки, одни белые, как молоко, другие красные, как кровь, испугавшись или ободрившись, набежали опять со всех сторон в комнату и стали пересказывать друг другу полученные вести. Вот тут-то надо было послушать споров: один и тот же знак, один и тот же звук иные принимали к добру, другие к худу, одни плакали, а другие смеялись. А как наконец начались поздравления, утешения, шутки, насмешки! Словом, шумному веселью не было бы конца, если бы старики, успевшие раза по два напиться и проспаться, не стали вызывать игруш домой: на общем совете у них положено было разъехаться теперь же, несмотря на позднюю пору, для того чтоб удобнее было на третий день собраться к одной дальней имениннице. Девушкам было очень досадно оставить такое раздолье, но их утешили надеждой вскоре возобновить прерываемую забаву; и они, перецеловавшись с молодою хозяйкою, поблагодарив ее за ласковое угощение, уговорясь о наступающем празднике, одни за другими разъехались с своими родителями, уложенные и укутанные. Старик взялся сам проводить одну свою приятельницу, трусливую вдову с двумя дочерями, жившую верстах в двадцати от его усадьбы.
Дочь осталась дома одна. Гаданья в этот вечер возвестили ей печаль наравне с радостию и взаимно себе противоречили: на стене, например, в тени от оловянных вылитков она увидела две церкви, а между ними глубокую впадину с колючим ежом, знаком потаенного врага. На морозе с одной стороны кто-то погладил ее пушистым хвостом, а с другой — оцарапал голиком, и песня ей спелася очень странная:
Сиди, ящер, в ореховом кусте; [27]
Щипли, ящер, спелые орехи;
Грызи, ящер, ореховы ядра;
Лови девку за русую косу,
Лови красну за алую ленту.
Она была в большом сомнении и, чтоб выйти из него, наслышанная много о сбыточных гаданьях в таинственный Васильев вечер, решается на последнее, самое действительное. Одна в своей комнате, в самую полночь, когда улеглись все домашние и только двое слуг в передней, дремля, дожидались барина, она садится перед зеркалом между двумя