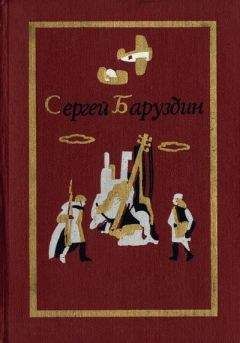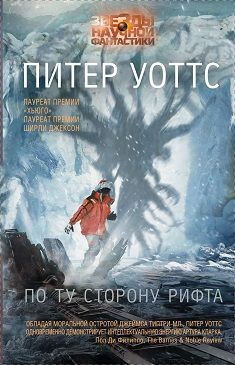Может, смешно говорить — друг? Николаю Степановичу — скоро семьдесят. Мне сегодня — пятнадцать. Но мы, право, по-настоящему дружим.
Николай Степанович — профессор консерватории по классу фортепьяно и одновременно балетмейстер Большого театра. Я не знал, чем он больше увлечен — музыкой или балетом, но я завидовал ему. Я не очень понимал музыку и ни разу не смотрел балета.
Для меня Николай Степанович был иным. Такого не знали другие — поэтом и книголюбом. Он писал стихи, такие, какие писали давным-давно классики: сонеты, романсы, акростихи.
Мне нравилось, как он пишет:
Ни роскошь, ни металл, ни право, —
Хранил я возрасты. И вот:
Я отрок, крошка слезоглот,
Юнец и старец белоглавый.
В том мудрость жизни, чтоб года
Не вымирали, канув в Лету,
И преступление поэту
Сказать: минула череда.
И вдруг еще такое:
Идя
Внаготку,
Глотку
Дерет.
Видя молодку,
В лодку
Зовет.
Кабы
Молодка
В лодку
Вошла,
В лодке
Молодка
Водку
Нашла.
Мы читали не только его стихи. Каждый день я проводил несколько часов в маленькой комнатке Николая Степановича, похожей на большую библиотеку. Мы читали старые книги на выбор — это почти всегда были стихи.
— Поэзия — одно из величайших таинств мироздания, мой друг! — говорил Николай Степанович. — Настоящая поэзия выражает сущность человеческой души и одновременно преображает эту душу. И чувства! Вообще, мой друг, искусство в большом понимании этого слова — плод вдохновения и стимул наслаждения. Эликсир наслаждения, так сказать. Без искусства человек гол, он животное, не более. Пища искусства нужна каждому разумному существу, как воздух. И когда люди понимали это, они всегда были людьми: они развивались, как высшие существа, и двигались вперед. И наоборот, в период инквизиции, например, подлинное искусство было задушено. И это неминуемо привело к гибели самой инквизиции. Более близкий пример — костры в современной Германии. Гитлер, как все бездарные люди, оказался бесплоден на ниве живописи. Между прочим, бездарные люди, мой друг, всегда очень злы и подлы. Они мстят, и мстят люто за свою бездарность, за свое творческое бесплодие. Бесплодие Гитлера дорого стоит цивилизации. Сегодня нет искусства уже не только в Германии, а и всюду, куда ступила нога фашизма. Но, друг мой! Сие парадокс, конечно, но фашизм себя именно этим и погубит. Загубивший искусство — погибнет сам. Нет! Искусство — потрясающе, вечно, как вечны жизнь и смерть! И поэзия — достойная сфера искусства, мысли и образа…
Николай Степанович говорил убежденно, горячо, красиво, не очень понятно, и тем больше он нравился мне.
Я гордился дружбой с Николаем Степановичем. С ним интересно. И потом, он в моих глазах настоящая знаменитость. В молодости его рисовал Серов, и я своими глазами видел этот портрет в Третьяковке. А совсем недавно, недели за две перед войной, Николай Степанович познакомил меня с Афиногеновым. И, хотя я не видел его пьес, я много раз слышал это имя, слышал о «Машеньке», о «Чудаке», о «Страхе» и «Далеком». Александр Николаевич Афиногенов заходил к Николаю Степановичу за какой-то книгой — шутил, смеялся и даже обещал прийти как-нибудь к нам в Дом пионеров, когда я сказал, что у нас есть свой театр.
Я часто пропадал у Николая Степановича, даже когда в нашей комнате все были в сборе — и отец, и мать. Отец не сердился на меня, а мать, кажется, сердилась. Я доверял Николаю Степановичу больше, чем мог доверить родителям. Стихи, например, стихи о Наташе. О них не знали ни мать, ни отец. А Николаю Степановичу я их читал.
…Я опять возвращаюсь к придуманным строчкам:
Все пройдет, и зимними порошами
Заметет прошедших весен нить…
Нет, конечно, не так надо писать. Вот у Николая Степановича действительно настоящие стихи. Как у Тютчева, и у Брюсова, и у Сологуба, и у Тредиаковского…
Но что это? Лучи прожекторов вновь рыщут над нашей крышей. И пуще прежнего грохочут зенитки. Трассирующие снаряды летят в небо быстрыми пунктирными лентами. И осколки, осколки грохочут по крыше. Это осколки наших снарядов. Я инстинктивно прикрываю голову и лицо руками. Я уже не думаю ни о стихах, ни о Наташе, ни о доме, ни о Николае Степановиче, а смотрю в небо…
И тут… Самолет, ясно видимый, почти игрушечный самолетик в лучах прожекторов. И отвратительный вой и грохот, и вдруг рядом с чердачным окном взмет искр и шипение. Зажигалка? Неужели зажигалка, та самая, о которой нам столько раз говорили, которую я знал по учебным плакатам? Но почему она так шипит? Учебная тревога?
Я бросился к чердачному окну, но сообразил, что не схвачу ее голыми руками за стабилизатор, как нас учили. Нет, может, и могу, но мне страшно хватать ее, искрящуюся и шипящую возле самого карниза. Наверно, так же страшно взять в руки горящую головешку из костра!
Мне жарко и одновременно холодно. На лбу горячий пот, по спине мурашки скачут.
Небо рвалось и вспыхивало, а зажигалка все шипела и искрилась. Почему-то я ударил по ней ногой — раз и еще раз. И вот ее уже нет — она летит с крыши вниз, во двор.
Но я не успел даже обрадоваться. На другом конце крыши бесновалась такая же зажигалка, которую я не заметил раньше, и возле нее дымилась крыша. Видно, вспыхнула краска. Я бросился туда и совершил в отчаянии явную глупость: скинул куртку и попробовал ею прикрыть огонь.
— Ты с ума сошел! — заорал на меня Боря Скворцов и еще двое мужчин, бросившихся топтать мою куртку: — Идиот! А песок для чего?
— Ты что?.. Дурак интеллигентный… Доверь таким…
Я узнал голос управдома.
Как и почему они оказались рядом со мной на крыше, мне некогда было думать. Песок? Песок был на чердаке в ведрах и ящиках, а не на крыше. При чем здесь песок!
Мы вчетвером тушили куртку и догоравшую под ней зажигалку, и сбивали языки пламени, которые ползли по листам железа.
Не помню, как все это кончилось. Кто-то успел притащить с чердака ведро песка и кастрюлю с водой, мы посыпали и полили уже потухшую краску.
Потом Боря долго ругался со мной и еще больше с управдомом. И под конец даже похвалил меня:
— Нельзя