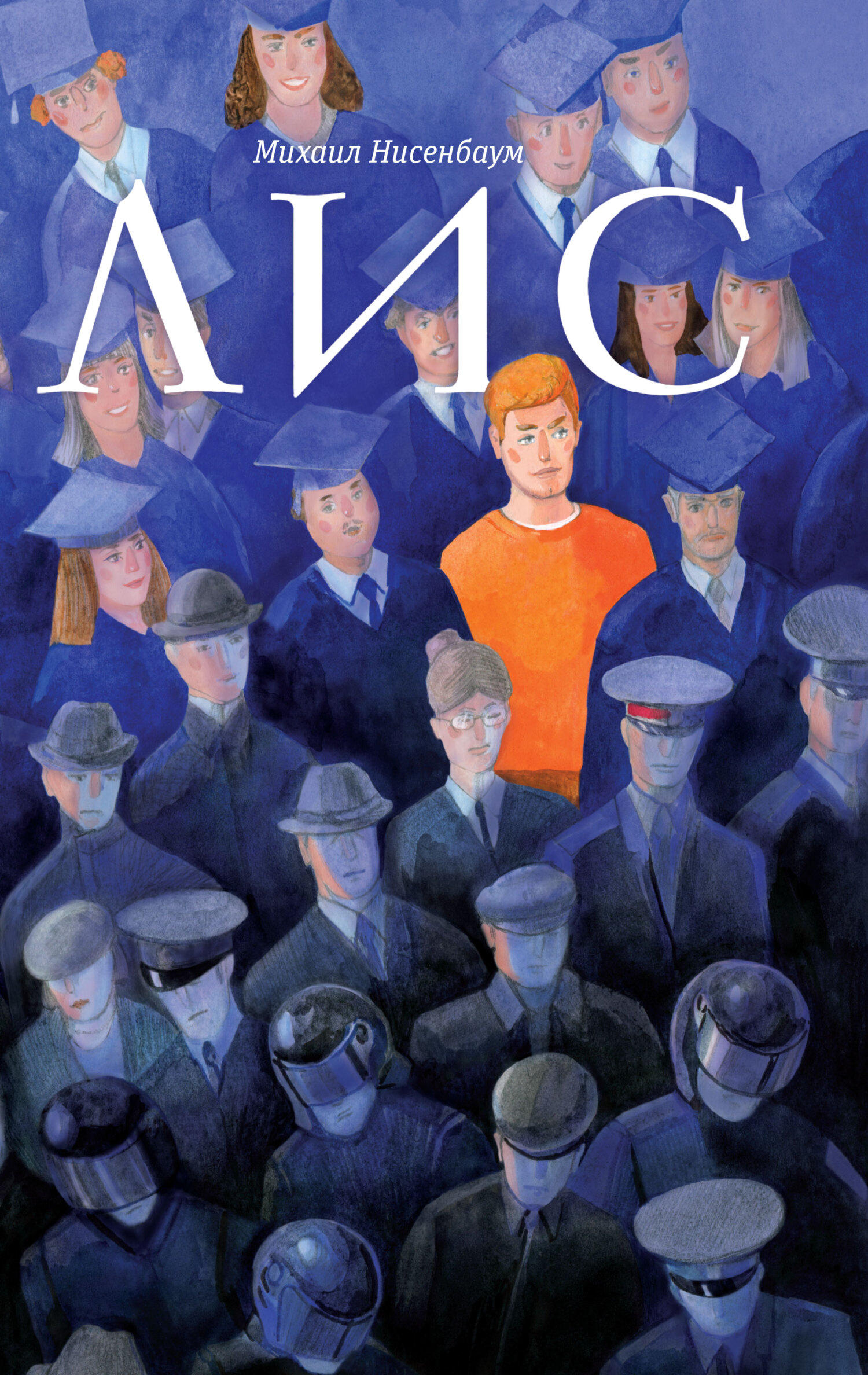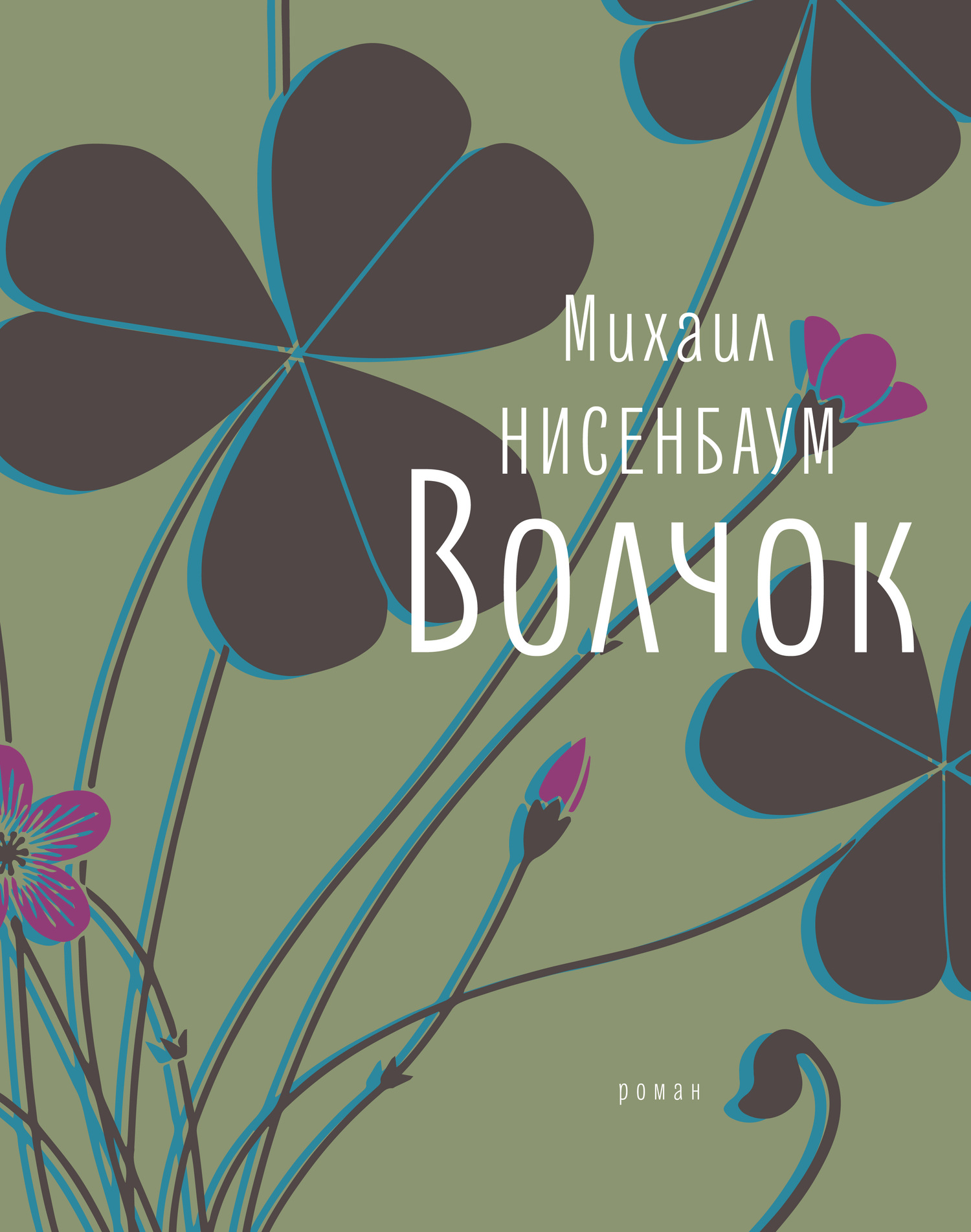при Юле.
– Поехали на Брестскую, – предложил Паша. – Лету конец, а вот сколько раз ты ел мороженое?
Когда-то давно друзья нашли способ измерить, насколько счастливо прошло лето. Это определялось по тому, сколько раз за лето человек купался, катался на велосипеде, ел арбуз и мороженое.
В маленьком кафе у Белорусского вокзала было безлюдно. Холодный свет ламп придавал залу вид банковского помещения. Поставив на стол стаканчики с разноцветным мороженым, долго не приступали к еде: предвкушали, ждали, пока ноздреватая поверхность шариков чуть подтает и разгладится.
– Сергей, вы какой-то неспокойный, – сказала Юля. – У вас все хорошо? Вот и с дня рожденья тогда умчались.
Тагерт понял, что теперь разговора не избежать. Пошлепывая ложкой по шарику мороженого, он принялся рассказывать о практике в прокуратуре.
– Теперь не знаю, как в сентябре войду в аудиторию и начну бубнить про какие-то личные окончания, про сервитуты, про никому не нужное римское право. Надо искать другую работу.
– Профессор, ты это брось. Как это ненужное?
– …А еще смотреть в их невинные лица и гадать, кто потом будет выбивать зубы на следствии, кто цеплять висяк на бомжа, кто…
– Сергей! Мы, кажется, за столом, – запротестовала Юля.
Павел покачал головой:
– Ты слишком упрощаешь картину. Три четверти наших выпускников не имеют к уголовке никакого отношения. А из оставшихся не все скурвятся. Ты же не скурвился? Я в консалтинге тружусь, ко мне какие претензии?
Подтаявшее мороженое плакало флуоресцентными отблесками. Тагерт молчал, вспомнив вдруг о праведном Лоте, который просил отвести кару от целого города грешников, если в том найдется хоть несколько праведников. Сколько праведников может отвести от города божью кару? По этой логике, даже если все студенты, кроме пяти-шести, превратятся в продажных судей, прокуроров или полицейских, следует продолжить преподавание ради этих нескольких чудаков? Кстати, Господь ведь все-таки спалил тогда Содом.
– Понимаешь, Паша, это не такой простой вопрос. Сколько людей должно остаться честными, чтобы ты… Хорошо, чтобы я не утратил смысл своей работы? Половина от всех? Каждый десятый?
– Не ты же учишь их нарушать закон. – Павел с удовольствием срезал с шарика крем-брюле стружка за стружкой. – Не знаю, сколько. Нет такой разнарядки.
– Но я не смог их научить соблюдать закон. А те, кто честен, – они благодаря нам честны или сами по себе? То есть несмотря на наши усилия?
– Казуистика это, – сказала Юля. – Сережа, вас все любят, вы на своем месте. Ешьте уже мороженое, наконец.
Тагерт послушно принялся за свою порцию.
– Какой-то заговор самообманов, – пробормотал он.
– Вкусно? – с нажимом спросил Павел.
– Ты не понимаешь.
К своему стыду, Тагерт чувствовал, что ему гораздо легче, возможно, просто оттого, что удалось выговориться. Или при помощи праведного Лота. А может, благодаря друзьям, которые не поддакивали, а, наоборот, спорили с ним, тем самым подкрепляя веру, которую Тагерт чуть не утратил? И еще его ждет Лия.
•
Впервые за многие годы он не хотел отпускать лето. Обычно уже в начале августа время тянулось, плавилось, лежало без движенья среди сохнущих трав или считало капли трехдневного дождя. Скорей бы сентябрь, в такт дождю барабанил он пальцами по столу, торопясь увидеть новые лица первокурсников, вышагивать между рядами, загадывать римские задачки, дирижировать хором: «О-эс-тэ-мус-тис-нтэ [35]».
Но такого лета, как нынешнее, не случалось никогда. Лето суеверного счастья, небывалого – потому и тревожного. Они виделись каждый день, почти каждый, но даже когда он держал Лию в объятьях, все равно скучал по ней, даже еще больше скучал. Жара, перекати-поля тополиного пуха, не разбирающие дороги, зыбкий отсвет воды на потолке – продолжение повышенной температуры чувств. Лето их понимало, обнимая, разбегаясь миллионами отзвуков, звеня подсказками и совпадениями. Избыток красоты в каждой былинке: смотришь на просвет через листки пастушьей сумки и кажется, что это связка крошечных воздушных змеев, сияющих, готовых к будущим полетам. Всех кошек кормить, всех собак приютить, голубей приголубить, в любви столько доброты, словно в глаза вселился бог.
Город утратил знакомые черты, громоздился легендой, веял будущими воспоминаниями. Всего чересчур много и катастрофически мало: нескончаемый день исчезает в мгновенье – и жалко его до слез. Близко к лицу ее лицо, и хочется утонуть в ее дыхании, пропасть, слиться, но только не переставать видеть, невыносимо не видеть. Слишком мало, слишком далеко – как минорно бывает счастье!
И все же наступил август, похолодели и умножились звезды, где-то в невидимой высоте стучал стеклянный молоток – то ли ремонт в соседнем доме, то ли пульс пилота в сверхзвуковом самолете. А тут вдруг выясняется, что завтра сентябрь, Лие пора учиться, Сереже преподавать, причем в одном и том же университете.
•
В тот год – последний год – особенно долго держалась летняя погода. А еще грибы – на рынках, у каждой станции метро десятками дежурили старики, бабы, мужики с ведрами и корзинами, вымощенными до дна крепкими молодыми подосиновиками или набитыми веснушчатой порослью опят. Сосед Чеграшей по даче, Викентьев, полковник в отставке, спокойно сказал: «Год грибной, быть войне». Галина Савельевна, услышав это, помянула черта и перекрестилась. В доме на Флотской пахло уксусом, гвоздикой, смородиновым листом, на стеллажах в гараже загадочно поблескивали литровые аквариумы с огурцами, помидорами и огневою хреновой закуской. Странно было возвращаться в жаркую пыль московской квартиры. Странно надевать костюм, начищенные жесткие ботинки взамен летних сандалий, повязывать галстук, заталкивая все летние свободы в заведомо тесный чехол распорядка.
И все же, идя на первое занятие, Тагерт радовался волнению, к которому так и не привык за двадцать лет: сегодня он встретит совсем новых людей, и они тоже увидят его впервые, так что непременно нужно сказать нечто такое, чего он не говорил никому и никогда. Он знал, что так и будет, причем подскажут ему сами незнакомые лица, но знание это не имело ничего общего со спокойной уверенностью. Он знал именно волнением, именно тем озаряющим предчувствием, за которое так любил начало учебного года.
Входя в большую солнечную аудиторию, где по стенам летали солнечные отсветы от пробегающих машин, Тагерт молча прошел к столу, открыл журнал. Не поднимая глаз, заполнил верхнюю, самую первую строку на правой странице, вздохнул, обвел взглядом лица притихших первокурсников и сказал:
– Здравствуйте, меня зовут Сергей Генрихович Тагерт, и в ближайшие полгода я буду преподавать вам дисциплину, которую вы даже не предполагали встретить в расписании, – латинский язык.
Проходя между рядами, он заметил, что у большинства студентов на столах одинаковые тетради приятного желтого цвета. На обложке чернела то ли надпись, то ли девиз, то ли афоризм – мало ли теперь выпускают тетрадей. Странно, отчего первокурсники понабрали таких тетрадей, точно сговорились. Может, в университетском киоске только они и продаются?
Тагерт предложил дать определение справедливости: «Вы – люди двадцать первого века. Вы знаете о