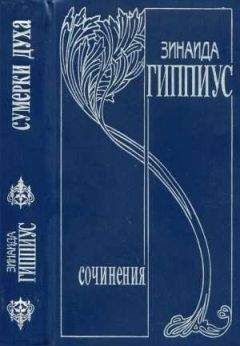Застенный*
На пятой неделе случилось, что о. Кодрат, собираясь идти служить, вдруг присел на пол, замахал одной рукой, странно скривил рот и замычал. Матушка Анна Филимоновна бросилась к нему, а он тут же завалился на бок всем своим огромным телом и завел глаза
Пока-то матушка с бабой Анисьей вопили, охали, растерянные, пока-то догадались своего же фельдшера вызвать, пока-то фельдшер за доктором сбегал, – раздели, наконец, о. Кодрата, втащили с трудом на кровать, принялись за хлопоты. Привели в чувство.
– Удар, – сказал доктор ополоумевшей от страха матушке. – Да вы успокойтесь. Из легких. Полежит еще, помычит, а там и говорить начнет, и нога с течением времени придет в действие. Организм на диво крепкий, да и не так стар батюшка. Сто лет проживет.
Анна Филимоновна хлопала перед доктором непонимающими глазами и шептала какие-то причитания.
Доктор ушел, прислал на первое время фельдшера, а вскоре о. Кодрату действительно стало лучше. Нижняя губа у него еще висела, говорил он с усилием, мало, и каким-то чужим голосом, ходить не мог, – однако, уже сидел в кресле, протянув закутанную тупую левую ногу. Распустившееся, ослабшее, огромное тело в кресле казалось неуместным и страшноватым; на ногах о. Кодрат был грозен; а в кресле, тяжкий и беспомощный, – только тяжек и беспомощен.
В таком состоянии застал его сын Василий, приехав на Страстной из Петербурга.
Мать в сенях с воплем кинулась ему на шею, и долго он не мог понять, в чем дело: известий раньше не получал. Василий всем складом походил на отца: такой же рослый и рыжеватый, только горбился он слегка, и совсем молодое лицо его было не грозное, а упрямое и запуганное.
Свиделись они странно.
О. Кодрат едва мог поднять больную правую руку и согнуть пальцы. Пытался сказать что-то, но от волнения не смог. Василий наклонился, поцеловал руку и молча отошел к окну. Долго смотрел из каменного флигеля, где они жили, на знакомую каменную, ровную-ровную, длинную-длинную стену. Влево будут в стене ворота, двое часовых стоят. От стены отделяет только узенький немощеный проулочек. Над стеной знакомые концы решетчатых окон. Углы крыш. Скромно блестит над левым корпусом, в сторонке, небольшой золотой крест. А там уж небо.
Знает эту стену, эти углы Василий. И крестик знает. Это ведь и есть «ихняя» церковь.
Обернулся к матери; она старенькая, непонимающе притихла.
– Кто же тут заместо отца-то?
– Сам о. протоиерей, Васенька, сам пока заместо его. Трудно, конечно, время-то такое, ну да что ж поделаешь. Кому ни доведись. Поправится Кодрат-то Архипыч, он ему вспомнит. Скоро уж он у нас встанет, слава тебе Господи!
Потом жизнь потекла себе мирно. Привыкшая к новому положению о. Кодрата матушка занялась усиленным приготовлением к празднику. Василий молчал, никуда не выходил. И даже еще мирнее, казалось, текла жизнь: прежде, бывало, грозно вспыхивал голос о. Кодрата; срываясь, бормотал что-то Василий; и вдруг выбегал вон; плакала, фыркая носом, старуха-попадья. Теперь только по-чужому охал больной поп. А Василий молчал.
В субботу – все готово.
В зальце флигеля вымыли, вычистили. Пышные занавески, белые, скрывают белую стену напротив; да ведь уж и темно. Стол с розговеньем приготовлен. Матушка и баба Анисья обе идут к заутрени: Василий сказал, что не пойдет, останется с отцом. Матушка попричитала, однако оделась и пошла. Недалеко ведь, через дорогу да в ворота: своя у них церковь, ну… привычная.
Василий ходит молча по освещенной комнатке. Кресло отца в стороне, у маленького столика. Тихо. Ровно скрипят Васильевы сапоги на поворотах.
– Ва-ся… – произнес больной. – Ты бы… по… почитал мне…
Василий только головой махнул. Опять ходит. Опять скрипят сапоги на поворотах. Только жестче.
– Ва-ся…
Василий остановился.
– Ну, что вам? – сказал он негромко. – Не буду я читать. Не хочу.
О. Кодрат попробовал сдвинуть брови.
– Как это… не будешь? Это что… еще? Опомнись… Ночь-то… какая…
– А вам что ночь? – сказал Василий, опять останавливаясь. И вдруг махнул рукой:
– Оставьте вы меня… Не тревожьте. Я к вам к здоровому ехал, а вы вон какой… Ну как я с вами говорить буду? Знал бы, не поехал бы теперь. А только вот что помните: не боюсь я вас больше, ни здорового, ни больного.
Лицо о. Кодрата скривилось, но не от удивления. Он сделал усилие:
– Да говори… чего имеешь. Немощь моя не такая… А нынче… и сущим во гробех… даровал…
Василий вдруг тихо засмеялся.
– Так говорить? Все, с чем ехал к вам, к здоровому? Скажу. Потому что коли вы больной, так ведь и я больной. Били вы мою душу, били, искалечили, а до смерти не добили. До горла мне дошло, вот что. А вы еще «сущим во гробех»… Сущим, да не всем. Это еще заслужить надо. Вы вот умрете, – ну и умрете, и не воскреснете.
Что-то похожее на животный страх отразилось в лице больного.
– Да, да, – продолжал Василий, шагая по комнате. – Я верю во Христа, моего, я верю… а во все эти там огни неугасимые не верю, просто вот кто говорит, что с Ним, а сам против Него, – тот умер и кончено, прах, тлен, гниль до веку веков, в том и наказанье все. Ну, чего? Это мне так вздумалось, потому что вы еще тут «во гробех…» Заболели – выздоровеете. Свое отживете. Ну, а там – не прогневайтесь…
– Ва-ва-силий…
– Чего, Василий? Сердце у меня перекипело. Не трогайте. Кончено у меня с вами. Для того и ехал, чтоб сказать. Покорности от меня хотели – была покорность. Я матери еще не говорю, огорчать ее не хочу, не поймет она, а вам сказать – для того и ехал. Бросил я академию эту, куда вы меня засунули; буду жить как хочу, пропаду так пропаду, а вашего мне – нитки вашей проклятой не нужно, и к месту вашему проклятому чтобы мне дорогу забыть…
Вдруг Василий, круто повернувшись, остановился у отцовского кресла и сказал шепотом, глядя больному в глаза:
– Яшку Поликарпова тоже вы напутствовали? Вы?
Не дожидаясь ответа – хмыкнул как-то странно, будто плач сдержал, и снова бросился ходить, скрипя на поворотах и говоря, негромко, быстро.
– Вы же крестили, вы же проводили… Небось помните, ровесник он мне был, вместе на огородах играли, там, за рекой, когда еще приходским вы были. Много из наших понапутствовали? А? Я как про Яшку узнал, сразу мне тут все точно открылось. Яшка – Яшкой, ну, а коли бы я тут, на место Яшки, за стенку попал, так что? И меня бы напутствовали? Перед веревочкой-то? Прощение бы грехам на том свете обещали? С именем Христа пришли бы темной ночкой ко мне за стену, вон за эту, где нынче цепным людям Христос воскрес поют?
Больной давно делал усилия, чтобы прервать сына, и поднял левую руку, точно защищаясь. Но Василий не слушал.
– Пожить захотелось. Ну и живите. Наживайтесь. Старайтесь. Властвуйте. Уж тут как угодно, а там уж не ждите. Там вместе с Яшкой вам не место. Либо он, либо вы! «Сущим во гробех», да, – ну, а только не всем! Извините!
Больной закачал головой и, хрипя, но громко, сказал:
– Ва-сенька! Ты погоди… Да ты думаешь… Отчего ж я свалился-то? Разве не ест оно? Ва-сенька!
Голос был совсем чужой. Василий опомнился. И удивился. Посмотрел на отвисшую губу, огромное, разбитое, расползшееся тело, страшное, противное – и жалкое. Сама тяжелая, неподъемная слабость человеческая перед ним сидела. Персть земная, растлевающаяся. И только где-то в мутных глазках теплилось еще светленькое.
– Вася, – продолжал старик. – Не даст Он никому погибели… Даст время оглядеться… А и не даст – Его воля…
Василий почувствовал и свое тело, – большое, молодое – чужим, таким же страшным, как отцовское. Ведь и он весь был – бездонная человеческая слабость, персть земная с ее проклятием и с малым, колеблющимся огоньком внутри. Не воскреснуть! Куда уж! Теперь горит он, Василий, за Яшку, горит весь и болит, что отец с Яшкой этакое сделал, – а завьется земная пыль, засыплет глаза, – ведь длинна жизнь, – ответишь ли за нее?
И страшно стало Василию, тяжко от земной тяжести. Прошло в голове и сердце: а я-то умру – не сдохну ли как пес? Коли он – так чего ж и не я?
У старика тихо скосилось лицо, лиловая губа отвисла, и скупые, маленькие слезы потекли по бороде. Расслаб ли он от болезни, жалел ли себя, что в обиде беспомощен, или что другое в нем шевелилось – только он плакал, тихо, громадный, тяжелый, суровый, – медный, как про него говорили.
Вася тоже заплакал, подражая, жалея и Яшку, и старика, и себя, большого и слабого. Наклонился к бороде отца. Поцеловал гадкие, бледные, лиловые губы. Бормотал:
– Ну-ну… Что ж делать-то… Ну-ну…
Анна Филимоновна вошла. От ее платья пахло воском и воздухом.
– С праздником! Христос воскрес, отец Кодрат!
– Во… воистину… – проговорил старик, не глядя на нее и протягивая к жене обе руки.
– Воистину, мама! – сказал Василий.