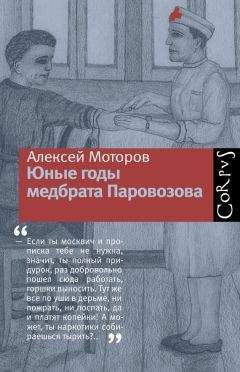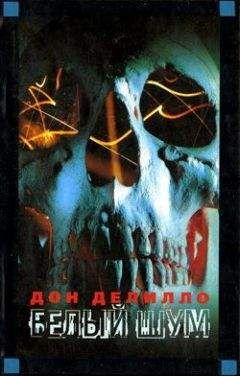Времянки на Руси по большей части стоят долго - пока не развалятся. Свою будку Иван свалял из подручного материала - фанерных щитов, бесхозных шпал - с расчетом на год жизни, а она прожила уже пять. Срок ее пришел, хозяин, под давлением ученой Фаины, позвал трудолюбивых друзей-приятелей на помощь: копать обводную канаву под фундамент для нового дома, постоянного. Был зван туда и задумчивый Мирослав Коробкович, регулярно распивавший с Иваном пиво под грибком, в замусоренном общественном парке, за конечной остановкой двадцать седьмого автобуса.
Собрались в воскресенье, в одиннадцать утра. Накрапывал дождик, но на погоду никто не обращал внимания: не Северный, в конце концов, полюс, не померзнем, и ветром не снесет. Настроение у всех было легкое, праздничное, какое бывает у русских людей перед началом полезной строительной работы. Увлажненная земля страдала от вони: вот уже четвертый месяц горели торфяники вокруг Москвы, тяжелый бульдозер с водителем провалился на ходу в подземную печь, в самое пекло; об этом случае много говорили по всему городу, поминали и чертей в аду - но по-свойски и с пониманием, как неприятных соседей.
Перед тем как разобрать лопаты, зашли в будку выпить по рюмке, как заведено. Фаина постаралась: стол посреди каморки был сплошь заставлен выпивкой и закуской. Вперемежку с бутылками в мисках и тарелках бугрились горки квашеной капусты, целились в рот едокам ядреные огурцы, отварная картошка в коричневых мундирах терпеливо ждала своего часа, селедка плыла в последний путь, а ломтики дорогой копченой колбасы выглядели здесь чопорно, как профессура среди народных забулдыг. Довольно урча и не скупясь на похвалы хозяйке, Ивановы помощники стали рассаживаться.
- Тихо, тихо! - предостерегала Фаина. - Стол не переверните!
Стол во времянке - покрытые газетами доски, уложенные на козлы - был, действительно, не слишком устойчив. Зато лавка была тяжелая и надежная, выдержит шестерку трудовых задов и не прогнется - с такой хоть в бой иди за власть советов. Меж лавкой и стеной, на деревянных чурках, серебрилось цинковое корыто с водой; там охлаждались бутылки "Жигулевского". Сбоку от стола, от хозяйского головного места, стояла ночная фигурная тумбочка с патефоном на ней. Синий патефонный ящик был уже открыт, на диске чернела привезенная из африканских дебрей джазовая пластинка, на заводной ручке висел чугунный утюг: чтоб пружина сразу не разматывалась, а держала музыкальную силу.
При виде угощения, освещенного свисающей на шнуре стосвечовой лампой, все десятеро приглашенных, мужчины и женщины, обрадованно заговорили, хотя и не во весь голос, а чуть скованно, совестливо: понятно было всем, что чистосердечный трудовой порыв откладывается на неопределенное время. Но с первой же рюмкой неловкость прошла и растаяла без следа, как тучка в солнечных небесах. Иван поглядывал довольно, поглаживал Фаину по толстому плечу. Выпили за Ивана, потом за будущий фундамент, потом за какого-то Женьку, который не приехал помогать, - пацан у него заболел, отравился повидлом. После пятой Иван шлепнул себя по лбу:
- А музыка!
Утюг был осторожненько передвинут на ручке, патефон захрипел и закашлялся, и африканский джаз нагрянул.
- Танцы, танцы!
Немедля, как по долгожданной команде, все повскакали из-за стола. Козлы зашатались, бутылки заходили ходуном. Упала табуретка, кто-то споткнулся в тесноте, за кого-то схватился, чтоб не упасть. Свалилась на пол с приставного кухонного столика сковородка с яичницей. Все хохотали: "Ну ребята! Ну яичница! Главное, чтоб водку не разлить!" Иван успокаивал по-хозяйски: "Водки навалом!" Фаина озабоченно улыбалась.
И играла музыка.
Танцевали с азартом, топали. Под ударами прогибались и охали доски пола, закрепленные на скорую руку. В теплой тесноте свалили полку с посудой, под каблуками захрустело стекло. Закричали вразнобой, от всей души: "К счастью, к счастью!" - и колотили по тарелкам и блюдцам уже прицельно. Комната ходила ходуном. С воли в распахнутую настежь дверь заглянул кролик, подергал розовым носом - и исчез, как в шляпе фокусника. Фаина натянуто улыбалась.
Мирослав вышел за порог покурить. Иван шагнул за ним, с парой стопок и бутылкой подмышкой.
- Освежиться надо, - сказал Иван, наливая. - Хорошо сидим!
Они чокнулись, выпили, выдохнули. Иван поднял с земли, из-под яблони, падалицу, разломил и протянул половинку Мирославу.
- Я ведь, знаешь, Славка, по бритовке хожу, - сказал Иван. - А все из-за бати. К нам немцы как пришли на Хопер в войну, ну и говорят: берите, мол, люди, землю, пашите, сейте. Народ-то испугался, а батя мой не такой был, он землю уважал: черт с ним, мол, - возьму, раз дают! Потом большевики вернулись, всех к ногтю прижали. Батя мой как дал стрекача, так и пропал. А я потом уже, после детского дома, паспорт взял на другую фамилию... Мне с такой биографией не в Уганду, а в Сибирь светило лет на пять, на стройки коммунизма. Сначала на пять, а потом еще на три - административно.
В будке загромыхало, как будто гром там прошелся из угла в угол.
- Ну ладно, - вслушался Иван. - Пошли, а то неудобно как-то...
Фаина уже не улыбалась, она в одиночестве сидела около патефона, меняла пластинки и глядела на гулянку исподлобья. Заметив вернувшегося Ивана, она отвернулась. А Иван, пробившись, облапил женщину и потащил танцевать. Потянуло, засосало и Мирослава - не найдя пары, он танцевал сам с собою. Кто-то дружелюбно протянул ему бутылку, он отпил из горлышка.
А потом опрокинули корыто. Вода пластом двинулась на ноги танцующих. Женщины завизжали, мужчины с бутылками в руках заняли оборонительную позицию, и возникла мгновенная суматоха. Когда дошло, что ничего не случилось, - подумаешь, корыто перевернули! - все радост
но загомонили, засмеялись, замахали руками. И - расколотили стосвечовку. После яркого освещения наступил плотный полумрак; только амбразура на стене серела, как заплатка.
И музыка играла.
- Диверсия! - кто-то пошутил, с пистолетным хлопком откупоривая шампанское.
Шутка понравилась:
- Стреляют, братцы!
- Спасайся, кто может!
- Трах-тах-тах!
- Лови его! Держи!
- Ха-ха-ха!
- По рылу ему, по рылу!
От удара ногой по пустому корыту пошел красивый переливчатый грохот. Следом рухнул злополучный кухонный столик, высокие слабые ножки задрались их развели попарно, выдернули из гнезд и с замахом обрушили на музыкальное корыто: "Бум, бам!" "Музыку, музыку давай! - ревел в сумраке хозяин. Гуляем, ребята!" - И, сунув пальцы в рот, засвистел переливчато, с трелью. Кто-то в замахе получил палкой по балде. Про африканскую музыку забыли, и, когда пластинка довертелась до конца, никто не обратил на это внимания; да и ночная тумбочка с патефоном опрокинулась от пинка, крышка синего ящика отвалилась, а чугунный утюг обрушился кому-то на сандалию, на пальцы. Пострадавший, не раздумывая зря, схватил утюг с пола и швырнул его, как ядро, в амбразуру окошка. Фаина проследила за полетом утюга угрюмым взглядом. Зазвенело и разлетелось стекло.
- Иван! - позвала Фаина. - Смотри, что делается!
- Молчи, сучка! - закричал Иван, вертя стул над головой. - Давай, ребята! Круши!
Тогда Фаина поднялась со своей табуретки и, засучив рукава на гладких сливочных руках, одним усилием своротила столешницу с козел. На это тоже мало кто обратил внимание, только ближние похватали на лету недопитые бутылки. Освободилось пространство. Иван, легко подхватив лавку, направил ее, как таран, на стену и, хлюпая по воде, ударил с разбега. Будка шатнулась. Помощники подались к двери, но никто не вышел за порог. Иван отступил, ответственно примериваясь. Ему помогал Мирослав, другие. Стену вышибли с четвертого удара. Заскрипели, медленно проседая, потолочные крепления. С победным криком люди кинулись в пролом, на волю. Будка разваливалась, как карточный домик. Гора мусора, пропадая в пыли, росла на глазах.
- А чего, - сказал Иван, закуривая. - Все равно строить надо. Сейчас копать начнем. Выпьем по одной и начнем.
Родись Иван немцем, вышел бы из него министр или просто богатый добропорядочный гражданин.
Вспомнив эту давнюю историю, Мирослав Г. усмехнулся над книжкой за столом Тургеневской библиотеки. Автор знал, о чем рассуждал: русская ломка всем ломкам ломка, на развалинах что только ни взойдет - то ли чертово семя, то ли ангельский пух.
7. Мама
В местечке Краснополье, что в сорока километрах от Люблина, дочка переплетчика Хаима Рутенберга и жены его Леи звалась Мирьям, Мири. Это потом, в войну, стали ее звать Марией, Машей.
Переплетное мастерство передавалось в семье Рутенбергов из поколения в поколение, от отца к сыну. Мальчики, один за другим, становились к переплетному станку, руки подростков с годами наполнялись силой, разношенные ладони обрастали грубой кожей. Мастерская помещалась здесь же, в доме, сладковатый запах разогретого клея расползался по всем закоулкам, а тысячи букв, казалось, прозрачно реяли в воздухе. И привычка к чтению исстари стала в семье столь же стойкой, как потребность в молитве: Рутенберги слыли книгочеями, это несколько странное увлечение представлялось местечковым обитателям - бондарям и портным, мелким торговцам и просто мечтательным бездельникам - составной частью переплетного ремесла. История семьи, бережно сохраняемая и в меру приукрашиваемая по ходу времени, включала в себя и фрагментарное жизнеописание деда Мордке - двоюродного деда, отщепившегося от переплетного ствола. Этот дед посвятил себя составлению географических карт и настолько преуспел в своем деле, что перебрался в Люблин, а потом и вовсе уехал в Россию, в город Екатеринослав. На ровном переплетном фоне Мордке с его картами выглядел чуть ли не экзотически, как попугай на березе. Но прочные семейные связи не прервались и даже не ослабли ничуть. "Клейка карт", как определяли Рутенберги занятие родственника, недалеко ушла от родового ремесла: с некоторой натяжкой можно было принять, что она просто от него отпочковалась.