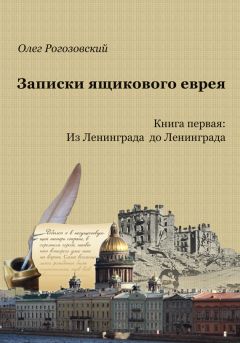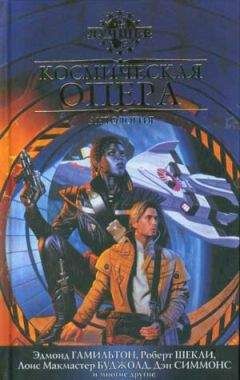Звонок оглушил. Коридор мгновенно заполнился галдевшей молодежью. Дверь опередила руку Сергея.
Высокий, уже снова знакомый настолько, будто и
не прошло десяти лет, человек впустил Сергея в
класс. "Ну, рассказывай, как первые десять лет ?" В его огромной ладони потерялась рука Сергея.
"Рассказывать особо нечего - учился, женился, работал по распределению. Как обычно." "А учился где ?" "В ЛЭТИ, на радиотехническом." - Сергей пустил нить разговора на волю течения : "А вы нынешних также гоняете ?" "Ты про того, кого я намедни выгнал! Умнейший парень, но спорит о том, о чем ни черта не знает..." "А чего он не знает ?" - Сергей, помня свой опыт обучения истории 'по Островскому', воспринял виденную им сцену, как должное. "Они молодые ребята, им хочется всего очень быстро," - Островский превратился в учителя : "и чтобы им дали дорогу.
В общем, социализм или другое. Ты знаешь, что у вас трое уехало ?" Сергей медленно покачал головой. "Этот тоже уедет, я уверен! Ему там будет лучше, но это ему, а другие, скажу откровенно, не такие талантливые, а которые его поддерживают, еще поймут, но на своей шкуре, что такое уверенность в будущем! Вот возьмем тебя - ты получил высшее образование, прожил вольные шесть лет, будем откровенны, не зная, нужно ли тебе это образование !.." Сергей пристально посмотрел ему в глаза. Глаза историка
сверкнули : "Я прошу не обижаться..." "Эта уверенность стоит слишком много крови!" Островский
задумался, не отрывая своего обжигающего взгляда. Он колебался, но Сергей сказал : "Нам друг от друга нечего скрывать - мы оба знаем, что такое война" Тогда тот просто ответил : "К сожалению, из умирающих империй вытекает человеческая кровь и чем больше империя, тем этой крови больше." Оба помолчали. "Сергей, ты когда вернулся ?" "Три недели назад." Островский снова обжег глазами : "Теперь ты первый выпускник - участник войн периода распада." "Петр Антонович, я вдруг понял, что мне ближе немцы..." - Сергей медлил : "...потому что и они и мы воевали с народом и, чтобы выжить, мы должны были убивать любого." В коридоре надолго зазвенело. Переждав звонок, Островский хрипло проговорил : "Наш батальон, уже в Восточной Пруссии, в Гольдапе, однажды подняли по тревоге из-за вервольфов. Приехали в фольварк. А там жили переселенцы откуда-то из Белоруссии. Вообще,
их давно приказано было отправить домой, но, сам понимаешь, вместо деревни - одни колышки. Так они возле нас кормились : девки, ребятишки. Мне, как тебе, двадцать пять лет. Бойцы у меня
- все больше дядьки после сорока, домовитые мужички. Они наладились к этим девахам бегать, а
я за них каждые два дня получаю по шее. Куришь ?" Сергей достал свою зажигалку. Оба неторопливо задымили 'Беломором'. "Значит, приезжаем, " Островский замахал рукой, разгоняя дым : "оказалось, кинули гранату в хату. Трое раненых, убитых - девка одна, блаженная была, и
пацан лет десяти. Они все опытные, как солдаты, только окно заскрипело, они все по углам поховались, только эта сумасшедшая пошла смотреть, кто там. А мальчишке просто места не хватило в углу." Сергей докурил, историк пододвинул пепельницу к Сергею. Сергей прикурил следующую папиросу. "Мы прочесывать все вокруг.
Обыскались, так эти идиоты никуда и не уходили от хутора - лежали, смотрели, что мы будем делать. А уже рассвело. Трое их было - один пятнадцать лет, и два близнеца по четырнадцати. Симпатичные, белокурые, аккуратно одетые мальчики. На ногах - ботинки и гетры. С походными рюкзачками, в рюкзачках - еще по пять
гранат, консервы мясные и всякое барахло для похода - нитки, иголки, спички, ножик перочинный. Стоят, смотрят на нас как нашкодившие школяры, мол дяди накажут и отпустят. И мы стоим и не знаем, что делать. Тут пацана убитого вынесли, бабки завыли-заголосили. Мы-то насмотрелись всякого, но тут ведь уже война кончилась. Вылетает распушонный весь начальник особого отдела, кричит - 'эти мерзавцы!', подбегает - старшему из этих 'партизан' пистолетом в зубы - 'кто подослал? переводчика мне !' Я говорю, что переводчик в штабе. А он даже обрадовался - 'тогда и нечего с ними разговаривать. Комбат, выделяй людей !' Все все поняли, отворачиваются, вроде даже кто-то уходит, а особист, углядев, мне и говорит, тихонько 'постройте батальон.' Делать нечего, даю команду. Особист плечом к плечу со мной, как бы командует - 'выделите комсомольцев!' Я прохожу вдоль строя, сам, наверное, знаешь, как человек и вроде бы на месте стоит, но будто отходит от тебя. А особист от меня ни на шаг - 'выйти из строя!' В общем, команда собралась из пацанов, по виду как и эти немчики, бледные они, руки у них трясутся. Я отговорился, что расстрелом по уставу не уполномочен командовать, особист сам за дело - построил шеренгу, скомандовал 'отделение...' У бойцов винтовки ходят ходуном, немцы поняли, близнецы заскулили тихонечко, знаешь, будто боясь, что за слезы еще сильнее накажут. А за моей спиной кто-то шепчет - 'товарищ капитан, разрешите лучше мне грех на душу взять...' Я обернулся - сержант Горьковенко, лет пятидесяти, из строя вышел и меня за рукав
взял. Я не успел ему ничего сказать, услышал визгливое 'пли!', потом не залп, а как зачетную стрельбу - то один выстрелит, то другой, и как-то нервно последний, лишь бы куда, потому что он задерживает остальных. Старший сразу упал - в ногу ему попали, еще один из близнецов, а второй вдохнул глубоко и глаза зажмурил. И камни из стены высоко над его головой брызнули.
Батальон насупился. Особист, такой тридцатилетний
лейтенант, кряжистый, лысоватый, быстренько подбежал на цыпочках, в стоявшего выстрелил в упор, а потом, будто, отряхнул рукава, над одним, другим, третьим... Кончил дело, не оглядываясь, запихнул пистолет в кобуру, обошел строй и исчез. Батальон разошелся без моей команды. Я сам поскорее, чтобы на гражданских не глядеть, пошел. У того, кто последний выстрелил, истерика, в винтовку вцепился... Ему сзади по башке дали, винтовку забрали. Старшего из комсомольцев потом в партию приняли." Сергей успел выкурить, пока учитель рассказывал, еще две папиросы. Островский замолк, кинул перетертую
папиросу в пепельницу. Сергей только сказал : "Плохо, что после войны грех тяжелее." Оба помолчали. Островский засмотрелся на пепельницу, бросил взгляд на часы : "Спасибо, что зашел. Мне
надо подготовиться к уроку", встал, протянул руку. Сергей тоже встал : "Что вы рассказываете об этой войне ?" "К сожалению, я пересказываю новости... Еще добавляю, что каждое новое поколение может изменить свою жизнь, только уважая выбор тех, кто жил раньше, как бы тебе это заявление ни показалось слишком торжественным..." Не отпуская руки Сергея, еще сказал : "Тебе трудно. Это навсегда. Иди на работу." И в последний раз, перед тем как Сергей ушел, положил ему руку на плечо : "Приходи!"
После встречи с Островским Сергей впервые со стороны оценил себя и все меньше находил причину своей неустроенности в окружавших обстоятельствах. Что же, условием его беззаботной, вольной жизни предполагалась его же готовность отдать себя служению системе, давшей ему такую жизнь. Что система и сделала, хотя она уже порядочно растеряла прежнюю цепкость, чтобы ловить тех, кто хотел избежать отдавать ей долг. Сергей видел и тогда, до армии, сколько существовало способов продлить жизнь, свободную от ответственности. Одно в глубине души жгло, как жжет челюсть гнилой зуб, что никуда не деться от взвешивания себя - чего достиг и упустил. Выслушать приговор честнейшего
внутреннего и всевидящего судьи о том, было ли
несделанное упущением по обстоятельствам или по незнанию, нерасторопности, в конце концов, следствием тех крох, которых не добрал в каждый
миг отпущенных едва ли трех десятков тысяч дней. От чего получается невеселый итог, что невозможно избежать собственной судьбы. Сергей чаще всего начинал отсчет от своей женитьбы, но
однажды он спустился глубже - к Юте. Вызывая в памяти ее размытое лицо, однажды внезапно понял,
что ничего бы не изменилось. И он несся навстречу реке времени, ярко, как днем, вспоминая события, о которых никогда не думал, провожал взглядом мощный поток и каждый раз убеждался, что течение несло бы его в ту же точку, из которой он нынче возвращался в прошлое...
И еще. Прежде ему бывало стыдно за свою жизнь, прожитую во снах. Теперь Сергей перестал чувствовать раздвоенность души, он - тот же и наяву и в фантазиях. С ним случалось, что он пробуждался посреди ночи в состоянии восторга, лежал, тщетно стараясь вспомнить, и, желая продлить это состояние, засыпал вновь и утром вставал с новым опытом чувств.
Однажды Сергею приснился белый собор, потолок которого растворялся в небесной сини. Вокруг были люди, но Сергей ходил, потрясенный легкостью колонн и не слыханной прежде музыкой. Он пробудился посреди ночи. Перед его невидящими
от слез глазами стояло и никуда не исчезало видение ажурных колонн среди свежего, наполнявшегося розовым светом воздуха...
Долее Сергей не мог заснуть. А над затихшими домами совершался переход от темно-синего цвета к голубому, и едва-едва из-за линии крыш, ставшей линией горизонта, густела и расширялась бело-красная полоса...