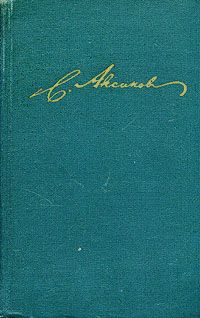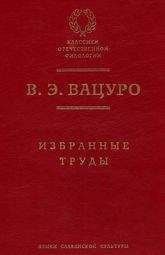что зрители громким смехом и рукоплесканием выразили свое удовольствие. Хотя я видел Щепкина на сцене в первый раз, но по общему отзыву знал, что это артист первоклассный, и потому я заметил Писареву, что немного странно играть такую ничтожную роль такому славному актеру, как Щепкин; но Писарев с улыбкою мне сказал, что князь Шаховской всем пользуется для придачи блеска и успеха своим пиесам и что Щепкин, впрочем, очень рад был исполнить желание и удовлетворить маленькой слабости сочинителя, великие заслуги которого русскому театру он вполне признает и уважает. Князь Шаховской был болен и потому не приезжал на ту репетицию, которую я видел вчера; его не было также и сегодня на настоящем представлении; но он взял слово с Писарева, что Писарев вечером побывает у него и расскажет, как шла пиеса. Мне была очень понятна и приятна такая нежная и беспокойная заботливость автора о своем произведении. Синецкая была очень хороша в роли Алкинои, но я заметил, что средства ее несколько слабы для такой огромной сцены, на которой, правду сказать, никогда не следовало давать комедий, а только большие оперы и балеты. Шаховской знал это лучше всех; но как его пиеса была сопровождаема великолепным спектаклем, то есть множеством народа, певцов, певиц, танцовщиков и танцовщиц, то ее и нельзя было давать на сцене Малого театра. Великолепный спектакль – была также маленькая слабость Шаховского, как я после узнал. – Мочалов привел меня в восхищение. Сколько огня, сколько чувства и даже силы было в его сладком очаровательном голосе! Как он хорош был собой и какие послушные, прекрасные и выразительные имел он черты лица! Все чувства, как в зеркале, отражались в его глазах! Греческий хитон и мантия скрывали недостатки его телосложения и дурные привычки к известным движениям, которые и тогда были в нем уже заметны. Одним словом, я был очарован им и был уверен, что из него выдет один из величайших артистов. Впрочем, и Кокошкин и Писарев также восхищались и говорили, что он никогда так хорошо не играл Аристофана; они приписывали удачную игру Мочалова отсутствию князя Шаховского, который своим постоянным наблюдением и взыскательностию за каждое неверно сказанное слово приводил в смущение молодого актера: он старался играть как можно лучше и оттого играл хуже. Узнав от Писарева, что Мочалов дик в обществе порядочных людей, что он никогда не бывает в литературном кругу Кокошкина без официального приглашения, я тогда же составил план сблизиться, подружиться с Мочаловым, ввести его в круг моих приятелей у меня в доме и употребить все средства для его образования, в котором он, как я слышал, очень нуждался. Я так горячо этого желал, что не сомневался в успехе; я сообщил мои намерения Писареву, который, сомнительно покачав головой, сказал: «Дай бог тебе удачи больше, чем нам; ты скорее нас можешь это сделать; ты ему не начальник, и твоя бескорыстная любовь к театральному искусству придаст убедительность твоим советам, которые подействуют на него гораздо лучше директорских наставлений. Я уверен, что Мочалов тебя полюбит, – а это самое важное». Обо всем этом я успел переговорить с Писаревым во время антрактов, ходя с ним по огромной сцене, представлявшей площадь в Афинах, в толпе театрального народа, превращенного в греков, в Вакховых жрецов и вакханок. Не откладывая дела в долгий ящик, по окончании пиесы, после шумного вызова Синецкой и Мочалова, я, с врожденною мне пылкостью, бросился к Мочалову и высказал ему мое восхищение, мои надежды, мое желание сблизиться с ним. В моих словах не было недостатка в искренности и в неподдельном горячем чувстве. Мочалов не умел хорошо выражать своих внутренних движений, но, очевидно, был тронут моим участием и в несвязных словах пробормотал мне, что сочтет за особенное счастие воспользоваться моим расположением и что очень помнит, как любил и уважал меня его отец. Несмотря на мои тридцать пять лет, я был еще очень молод, голова моя горела, и я в большом волнении отправился в свою уединенную и отдаленную Таганку.
На другой день вместе с Кавелиным поехали мы к П. П. Мартынову, который жил в Спасских казармах; с ним также произошла значительная перемена, равно с другим моим приятелем Воропановым. Ровно за десять лет оставил я их офицерами Измайловского полка: Мартынов был полковником, служакой, а Воропанов – капитаном, вовсе фрунтовой службы не знающим, потому что всегда находился адъютантом у полкового командира. Я был коротким приятелем с обоими и, прощаясь с ними в Петербурге в 1816 году, я убедительно доказывал, что им не следует оставаться в гвардии; оба не получили почти никакого образования и не имели никакого состояния. Я советовал им выйти в армию полковыми командирами, жениться на деревенских девушках с состоянием и зажить припеваючи, и что же? В 1826 году Мартынов служил гвардейским бригадным генералом, а Воропанов командовал гвардейским полком: оба были генерал-адъютанты. События 14 декабря выдвинули их вперед, потому что они имели случай показать свою преданность государю; впрочем, Мартынов, кроме титула известного фрунтовика, имел много душевных достоинств и был давно известен императору, когда он еще был великим князем и шефом Измайловского полка. Личность Мартынова заслуживала полного уважения; но для этого надо было знать его очень коротко и примириться с невыгодною внешностью. Мартынов был мой земляк, очень меня любил и обрадовался мне, как родному. Он вспомнил, что я советовал ему и Воропанову перейти в армию и, встряхнув своими золотыми эполетами и аксельбантом, засмеявшись, сказал мне, что предсказания мои не сбылись и что незнание французского языка и грамматики не помешало ему занять такое высокое место и пользоваться милостью и доверенностью государя. Я искренно порадовался его возвышению и пожелал ему дальнейших успехов.
Александр Семеныч Шишков был в это время министром народного просвещения. Разумеется, я поспешил с ним увидеться. Я говорил уже в одном из моих воспоминаний, что он назначил меня цензором в московском, будущем, отдельном от университета, цензурном комитете, который должен был открыться через несколько месяцев. Это обстоятельство много облегчало для меня трудность московской жизни.
Через месяц опустела Москва от приезжих гостей. Двор, дипломатический корпус, министерства и гвардия воротились в Петербург, и Москва приняла свой обыкновенный, будничный характер. Я нанял себе большой дом на Остоженке, и мало-помалу начала устроиваться моя городская жизнь.
В продолжение этого времени я почти ежедневно бывал в театре и виделся с Кокошкиным, Загоскиным и Писаревым. Князь Шаховской недели две был болен и не выезжал из своей квартиры. Все трое моих приятелей, в том числе и Кокошкин, которого кн. Шаховской, как известно моим читателям, некогда бранил беспощадно, были с ним очень дружны и хотели немедленно повезти меня к нему; но я решительно отказался и объявил, что не намерен сближаться с Шаховским. Все думали, что я сержусь на него за петербургскую нашу встречу, случившуюся за десять лет при постановке на русскую сцену «Мизантропа», – но это было совершенно несправедливо. Я вовсе был неспособен к злопамятности, да и дело того не стоило. Мне даже досадны были слова Кокошкина, который не один раз говорил мне: «Нет, милый, ты все сердишься на Шаховского за меня. Поверь, что он это так. Он ведь пребешеный и когда взбеленится, то сам не помнит, что говорит; а злобы у него никакой нет, и он предобрый, он всех нас любит от всего сердца, хотя при случае, осердясь, и укусит». Загоскин, который о других судил по себе, у которого все были прекрасные люди, распинался за честность и доброту князя Шаховского. Даже Писарев, которого суд об людях был скорее строг, чем снисходителен, уверял меня, что кн. Шаховской – раздражительное, но добродушное дитя, что у него много смешных слабостей, что он прежде в Петербурге находился под управлением известной особы, что за нее прогнали его из петербургской дирекции, где заведывал он репертуарною частью, и что, переехав на житье в Москву на свою волю, так сказать, он сделался совсем другим человеком, то есть самим собою. Но предубеждение мое против князя Шаховского было слишком сильно. Он имел множество врагов в Петербурге, которые составили ему весьма дурную славу в обществе. С самых молодых лет я привык считать кн. Шаховского притеснителем Шушерина, интриганом, гонителем великого таланта Семеновой, ласкателем, угодником людей знатных и сильных и, наконец, заклятым врагом Озерова, которого он будто бы преследовал из зависти и даже, как утверждали многие, был причиною его смерти. Вследствие таких-то предубеждений и слухов, которым я более или менее верил, сколько меня ни уговаривали, я не поехал к Шаховскому; когда же он выздоровел, я старался не встречаться с ним, и как этого совершенно избежать было невозможно, то я отделывался учтивым поклоном. Общие приятели наши наговорили много доброго обо мне Шаховскому, и он еще до моего приезда желал коротко со мной познакомиться и подружиться. При первой встрече у Кокошкина он, как хозяин, должен был познакомить нас с Шаховским. Не упоминая о нашей прежней, довольно близкой встрече, мы отрекомендовались друг другу, как люди, которые видятся в первый раз в жизни. Шаховской впился было в меня со всею ласковостью своей забавной болтовни, но скоро моя сухость и холодность укоротили его неумолкаемый язык, и он должен был оставить меня в покое. При следующем свидании вторичная попытка князя Шаховского сблизиться со мной также была неудачна. Я упрямился, хотя видел, что такое положение огорчало всех моих приятелей, что оно нарушало согласный строй дружеских собраний всего нашего круга. Шаховской приставал с расспросами к Кокошкину, Загоскину и Писареву: что значит мое отчуждение? и они были в затруднении, что отвечать на такие вопросы. Наконец, Писарев решился поступить прямо и откровенно; он сказал Шаховскому, что я, наслышавшись много дурного о нем, не хочу с ним войти в приятельские отношения. Шаховской огорчился и в свою очередь поступил так же прямо: он приехал ко мне сам и рассказал мне искренно и добродушно всю историю своей службы при Петербургском театре; рассказал мне несколько таких обвинений против него, каких я не знал, и, опровергнув многое положительно, заставил меня усомниться в том, чего опровергнуть доказательствами не мог. Я был побежден, протянул руку Шаховскому – и не имел причины раскаиваться. С каждым днем узнавая короче этого добродушного, горячего до смешного самозабвения и замечательно талантливого человека, я убедился впоследствии, что одну половину обвинений он наговорил и наклепал сам на себя, а другая произошла от недоразумений, зависти и клеветы петербургского театрального мира, оскорбленного, раздраженного нововведениями князя Шаховского: ибо при его управлении много людей, пользовавшихся незаслуженными успехами на сцене или значительностью своего положения при театре, теряли и то и другое вследствие новой системы как театральной игры, так и хода дел по репертуарной части. К этому должно прибавить, что князь Шаховской, не видя никакой возможности переучить или переделать на свой лад людей старых и даже не старых, но уже закоренелых в старой методе сценических традиций, выбрал несколько молодых людей и образовал их по-своему. Правда, однакож, и то, что он был пристрастен к ним и видел в них великие таланты, тогда как они имели от природы мало дарований. Впрочем, тем более чести им. Они, под руководством более светлого, истинного взгляда на искусство, переданного им князем Шаховским, умели сделать из себя таких артистов, которые долго были украшением петербургской сцены и пользовались в свое время громкою славою и полным сочувствием снисходительной и благодарной петербургской публики. Это поучительный пример для людей с положительным талантом, блистательно начинающих и потом от лени, неуважения к труду, от непонимания искусства переходящих в жалкую посредственность. Я знаю, что и теперь, назвав актеров, любимцев князя Шаховского, по имени, я вооружу против себя большинство прежних любителей театрального искусства; но, говоря о предмете столь любезном и дорогом для меня, я не могу не сказать правды, в которой убежден по совести. Эти актеры были: Брянский, Сосницкий, г-жи Валберхова и Ежова. Первые трое, лично ни в чем не виноватые, возбуждали только зависть; но последняя госпожа была самою главною причиною дурной славы князя Шаховского. Имея на него большое влияние, она умела раздражать его, а в раздражении Шаховской бывал иногда несправедлив и на словах и на деле. Всего хуже было то, что Шаховской, несмотря на свою вспыльчивость, проходившую мгновенно, не умел, не смел и не мог обуздать неизвинительных поступков этой женщины; все это падало на князя Шаховского, и, конечно, все имели полное право обвинять его.