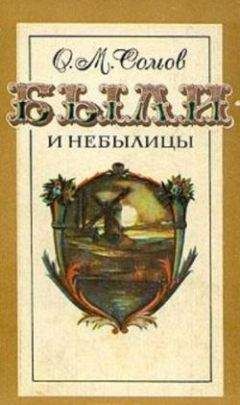— Так по рукам, и завтра же свадьба, — сказал поляк, подставив свою ладонь.
— Это слишком скоро: мы ни с чем еще не готовы…
— Не твоя забота, пан Гриценко! у меня все мигом будет готово. Мне некогда ждать, время не терпит; я и так уже просрочил, а я непременно хочу погулять на свадьбе у доброго моего приятеля Кветчинского. Сейчас же разошлю моих молодцов сзывать вчерашних гостей и пригласить старика Кветчинского на нынешний вечер: сегодня у нас непременно должен быть сговор. Другие из моих шляхтичей отправятся закупать все нужное к свадьбе, и завтра же наши жених с невестой будут обвенчаны… Эй, люди!
На голос поляка сбежались его прислужники. Он с удивительною поспешностию и точностию роздал им приказания и разослал их в разные стороны. Через минуту они были уже на конях и выехали со двора. При нем, для услуг, осталось только четверо.
— Ин по рукам: я на все согласен, — сказал Гриценко, до сих пор в молчаливом раздумье смотревший на все, что вокруг него происходило.
— Давно бы так! — подхватил польский пан и хлопнул в открытую ладонь Гриценка так сильно, что он от боли поморщился и замахал рукою. Поляк улыбнулся. — Это остаток старой моей силы, — сказал он с видом самохвальства, — в прежние годы я разгибал подковы и скручивал узлом железные кочерги без дальних усилий. Теперь уже не то, все не по-старому; нет уже таких молодцов-силачей, как бывало прежде. И не только в силе — в самых понятиях нынешняя наша молодежь крайне изменилась. Скажу и о твоем будущем зяте: у него престранный образ мыслей. Например, он никак не принял бы сам от меня этого подарка из гордости; и я прошу тебя, пан Гриценко, не прежде отдать ему шкатулку, как на другой день свадьбы. Теперь покамест унеси ее и спрячь у себя.
— Правда, правда! — сказал Гриценко и, услышав шум в передней светлице, торопливо схватил шкатулку, притаил ее у себя под мышкою и почти припрыгивая унес в свою комнату.
В эту минуту вошли Кветчинский и Прися. Польский пан подошел к ним, поздравил Присю с добрым утром и с женихом, а Кветчинского с невестой. Оба они не верили своему счастью и принимали слова поляка за дурную шутку, пока возвратившийся Гриценко не уверил их в том совершенно. Не станем описывать их радости: все такие описания скучны, ибо радость любит выражаться не словами, а улыбками, взглядами и тому подобными знаками, которых никакое красноречие не сильно вполне передать.
К вечеру начали съезжаться гости: отец Кветчинского явился из первых, дивясь нежданному приглашению богатого и спесивого соседа. Уже по приезде узнал он, зачем его звали, и радовался почти не меньше своего сына. Началось сватовство обыкновенным малороссийским обрядом: польский пан, игравший роль старшего свата, поставил на стол хлеб и соль и просил ласки хозяина, чтоб он принял от его руки жениха своей дочери; и когда пан Гриценко подтвердил свое согласие, тогда Прися поднесла сватам и отцу своего жениха шелковые ручники на серебряном подносе. Остальное шло своим чередом: гости пили за здоровье жениха и невесты, отцов их, сватов и проч., гостьи пели свадебные песни; польский пан был шутлив и любезен до крайности, говорил даже малороссийские поговорки, приличные случаю. Казалось, что он учился тамошнему наречию не по дням, а по часам, как славные богатыри росли в старинных русских сказках. Поздно разошлись гости по квартирам, которые отведены им были в домах зажиточных обывателей селения.
На другой день, рано поутру, дружки одели невесту к венцу. В девять часов свадебный поезд был уже совсем снаряжен: жених с сватом и дружком поехали вперед верхами, чтобы у церковных дверей принять невесту, которая с свахою, дружками и светилкою везены были в старинном огромном рыдване, четверкою коней и вершинками. Сбруя на конях и рукава у вершников украшены были большими бантами розовых лент. От венца поезд возвратился тем же самым порядком в дом пана Гриценка, где уже приготовлен был, в ожидании обеда, сытный завтрак. Начались поздравления и потчеванья, молодой и молодая стали с поклонами подносить гостям разные цветом и вкусом водки. Каждый из почетнейших гостей, выпив, целовал молодых и клал на поднос какой-нибудь подарок. Польский пан, или сват женихов, положил полный кошелек червонцев. Таким образом время продлилось до обеда, за которым пирушка разгуливалась более и более. Гостям показалось странно, что не было музыки: некому было играть туш, когда пили здоровье молодых. Пан Гриценко уже дважды посылал за слепым бандуристом, но он все не являлся. Стецько снова был отправлен привести или притащить его, если он не пойдет доброю волею.
В конце стола венгерское польского пана опять полилось в чары и в уста лакомых гостей. Сам поляк был еще веселее, разговорчивее и шутливее, нежели прежде. Он часто пил за здоровье молодых, приговаривая: «Горько!» в заставляя их целоваться; напевал малороссийские и польские песни, точил балы и был в полном смысле душою пирушки. Опять он велел принести большую свою серебряную стопу и пил из нее на коленях с паном Гриценком и старым Кветчинским.
С шумом и суматохою кончился обед. Начались громкие, крикливые разговоры; женщины уселись в кружок и запели веселые малороссийские песни; мужчины собрались около них, слушали и подтягивали. Между тем молодые, посаженные на почетном месте, почти не замечали того, что вокруг них происходило: они, так сказать, были погружены в настоящее и будущее свое благополучие. В таких приятных и невинных занятиях пролетело несколько часов. Тут только некоторые из гостей и хозяин дома заметили, что между ними кого-то недоставало, и сквозь туман винных паров наконец досмотрелись, что отлучившийся гость был веселый и добрый польский пан, сильно поколебавший, врожденное в малороссиянах предубеждение насчет поляков. Начали его искать повсюду — его нигде не было; люди его, прислуживавшие за столом, также все скрылись. Некоторые из самых любопытных гостей побежали осведомляться на дворе: поселяне, собравшиеся смотреть на свадьбу, сказали им, что несколько часов тому назад бричка польского пана выехала за ворота, конные служители его также поодиночке выбрались, а спустя немного сам он тихо вышел на улицу, сел в бричку и ускакал, окруженный своими проводниками.
И гости, и хозяин дивились такому странному поступку польского пана; отец Приси дивился также и тому, что ни слепой бандурист, ни Стецько не являлись во весь вечер. На многолюдных, шумных пирушках обыкновенно такие случаи на миг мелькают в понятиях собеседников и быстро сменяются другими впечатлениями. Какой-то залетный музыкант с скрипкою, песни, пляски и продолжительная попойка скоро вытеснили из согретых хмелем голов и польского пана с его забавными шутками, и слепца Нестеряка с его бандурой, и Стецька с его глупым взглядом и разинутым ртом.
Последний из них явился, однако ж, на другом день поутру. Он бросился в ноги своему пану, просил у него прощения за вчерашнюю свою отлучку и сказал, что слепой Нестеряк решительно отказался идти на свадьбу с своею бандурой. В то же время Стецько подал господину своему запечатанное письмо.
— От кого принял ты это письмо? — спросил пан Гриценко, еще не разламывая печати.
— От кого?.. — молвил Стецько, повторяя вопрос со всею медлительностию малороссиянина. — Да от нашего свата, польского пана…
— Где и как, — нетерпеливо подхватил Гриценко,
— Где?., в корчме, за селением, на большой дороге. Как?., я и сам порядком не помню; дайте надуматься. А! теперь кажется так: извольте слушать. Шедши домой от Нестеряковой хаты, я встретился с одним из шляхтичей, который дружески потрепал меня по плечу и сказал: «Прощай, товарищ! пан наш уехал, и я спешу вслед за ним. Да не можешь ли ты, прибавил он, — сослужить мне службу, показать мне дорогу а корчму, что за селением, по С…цкому шляху? Я тебе буду очень благодарен, и там мы расстанемся, как добрые приятели, за чаркою вина». — Виноват, грешный человек: я взялся его провожать, и там мы нашли польского пана со всеми его проводниками. Пан обошелся се мною ласково, потчевал меня сам из своих рук, дал мне на водку и велел подождать, пока напишет к вам письмо. В другой светлице шляхтичи окружили меня и пили со мною на расставанье до тех пор, что уж я и не помню, как заснул. Когда же проснулся, то уж ни пана, ни людей его не было, а корчмарь подал мне это письмо и крепко-накрепко наказал мне доставить его к вам, говоря, что если не доставлю, то польский пан отыщет меня хоть под землею и тогда бог весть, что со мною будет. Я испугался и своей отлучки из дому, и вашего гнева, и угрозы польского пана, опрометью бросился из корчмы и не помню, как меня ноги сюда донесли.
Пан Гриценко, выслушав этот рассказ, распечатал письмо. Судите ж об его удивлении, когда он прочел в нем следующее.
«Пан Гриценко! я хотел ограбить тебя, и уже все было к тому готово. Чтобы собрать моих удальцов в одно место, переодел я их в однорядку, и сам оделся поляком, потому что не имею в здешних местах надежного притина. В этом виде велел я самым лихим ребятам из моей вольницы съезжаться в одной корчме, где сам их дожидался. На твое счастье, приехал туда же нынешний зять твой, Кветчинский. Я хотел было отправить незваного гостя в нежданное место; но как я никогда не проливаю крови, то вздумал выведать хорошими средствами, не будет ли он нам помехой? Слово за слово, я вытянул из него всю подноготную: и любовь его к твоей дочери, и твой отказ, и его горе. Я от природы имею доброе сердце: мне стало жаль бедного Кветчинского: тотчас я переменил намерения на твой счет и решился помочь ему. Хорошо ли я в этом успел, сам ты знаешь. Прощай: люби дочь и зятя, надели их, как долг велит доброму отцу, береги мою шкатулку — она тебе пригодится, и будь милостив к своим служителям. Они такие же люди, как и ты. Если все это исполнишь по моему желанию, то можешь быть уверен, что никогда не встретишься с Гаркушею».