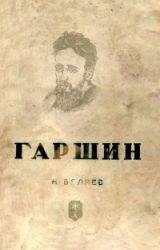— Знамя есть, которое хорю… хоруг… — лепечет он, стараясь как можно более вытянуть в струнку свое неуклюжее тело, подняв подбородок кверху и моргая лишенными ресниц веками.
— Дурак! — кричит чахоточный унтер-офицер, обучающий словесности. — Что вы, аспиды, со мной делаете?.. Долго ли мне с вами мучиться, идолы вы, мужичье сиволапое? Тьфу! Который раз тебе повторять надо? Ну, говори за мной: знамя есть священная хоругвь…
Никита не может повторить даже этих четырех слов. Грозный вид унтер-офицера и его крик действуют на него ошеломляющим образом; в ушах у него звенит; в глазах прыгают знамена и искры; он не слышит мудреного определения знамени; его губы не двигаются. Он стоит и молчит.
— Говори же, черт тебя возьми; знамя есть священная хоругвь…
— Знамя…
— Ну?..
— Хорюг… — продолжает Никита. Голос его дрожит, на глазах слезы.
— Есть священная хоругвь, — кричит взбешенный унтер-офицер.
— Священная, которая…
Унтер-офицер бегает из угла в угол, плюет и ругается. Никита стоит на том же месте и в той же позе, следя глазами за рассерженным начальником. Он не возмущен бранью и оскорблениями и только всею душою горюет о своей неспособности «заслужить» начальству.
— На три дневальства не в очередь! — говорит упавшим голосом искричавшийся, измученный унтер-офицер, и Никита благодарит бога, избавившего его, хоть на время, от ненавистной «словесности» и ученья.
Когда начальство заметило, что наказание, налагаемое им на Никиту, не только не причиняет ему огорчения, а даже доставляет радость, — Никита начал сидеть под арестом. Наконец, испробовав все средства для исправления несчастного, на него махнули рукой.
— С Ивановым, ваше благородие, ничего не поделаешь, — говорит почти каждый день на утреннем докладе ротному командиру фельдфебель.
— С Ивановым?.. Да, да… Что же он такое делает? — отвечает капитан, сидящий в халате, с папироскою, и прихлебывающий чай из стакана в мельхиоровом подстаканнике.
— Ничего, ваше благородие, не делает, человек он смирный, только понятия у него ни к чему нет.
— Попробуй как-нибудь, — говорит ротный, задумчиво выпустив изо рта колечко табачного дыма.
— Пробовали, ваше благородие, да ничего не выходит.
— Ну, так что ж мне с ним делать? Ведь согласись, Житков, я не бог. А? Ну, дурак, так что же с ним поделаешь?.. Ну, ступай.
— Счастливо оставаться, ваше благородие. Наконец ротному надоело выслушивать каждый день жалобы фельдфебеля на Никиту.
— Отстань ты с своим Ивановым! — крикнул он. — Ну, не выводи его на ученье, плюнь на него. Сделай с ним, что хочешь, только не лезь с ним ко мне…
Фельдфебель попытался было устроить перевод Никиты Иванова в нестроевую роту, но там и без того было много людей. Отдать его в денщики тоже не удалось, потому что у всех офицеров денщики уже были. Тогда на Никиту навалили черную работу, оставив все попытки сделать из него солдата. Так он прожил год, до тех пор, пока в роту не был назначен новый субалтерн-офицер, прапорщик Стебельков. Никиту отдали к нему «постоянным вестовым», то есть попросту денщиком.
* * *
Александр Михайлович Стебельков, новый хозяин Никиты, был очень добрый молодой человек, среднего роста, с бритым подбородком и великолепно вытянутыми, как острые палочки, усами, которых он иногда не без удовольствия слегка касался левою рукою. Он только что кончил курс юнкерского училища, не выказав в течение пребывания в нем особенного пристрастия к наукам, но зато в совершенстве познав строевую службу. Он был совершенно счастлив в своем настоящем положении. Два года, проведенные в училище на казенном содержании, под строгим надзором начальства, совершенное отсутствие знакомых, где можно было бы отдохнуть в праздничные дни от казарменной жизни училища, ни копейки собственных денег, с помощью которых он мог бы доставить себе какое-нибудь развлечение, — все это слишком утомило его. И теперь, увидев себя офицером, человеком, получающим до сорока рублей в месяц содержания, имеющим команду над полуротою солдат и в полном своем распоряжении денщика, он пока не желал ничего более. «Хорошо, очень хорошо», — думал он, засыпая, и, просыпаясь, прежде всего вспоминал, что он уже не юнкер, а офицер, что ему уже не надо тотчас же вскакивать с постели и одеваться, под опасением нагоняя от дежурного офицера, а можно еще поваляться, понежиться и выкурить папиросу.
— Никита! — кричит он.
Никита, в полинялой розовой ситцевой рубашке, в черных суконных штанах и неизвестно где добытых им старых глубоких резиновых калошах на босую ногу, появляется в дверях, ведущих из единственной комнаты квартиры Стебелькова в переднюю.
— Холодно сегодня?
— Не могу знать, ваше благородие, — робко отвечает Никита.
— Поди погляди и скажи мне.
Никита немедленно отправляется на мороз и по прошествии минуты снова является в дверях передней.
— Дюже холодно, ваше благородие.
— Ветер есть?
— Не могу знать, ваше благородие.
— Дурак, как же ты не можешь знать? Ведь был на дворе…
— На дворе нетути, ваше благородие.
— «Нетути, нетути»!.. Поди на улицу!
Никита идет на улицу и приходит с докладом, что «ветер здоровый».
— Ученья не будет, ваше благородие, Сидоров сказывал, — осмеливается дополнить он.
— Хорошо, ступай, — говорит Александр Михайлович.
Он свертывается в комок, натягивает на себя теплое байковое одеяло и в полудремоте начинает мечтать под треск ярко горящей печки, затопленной Никитою. Юнкерская жизнь представляется ему каким-то неприятным сном. «Ведь вот как недавно это было: бьет барабан над самым ухом, вскакиваешь, дрожишь от холода…» За этими воспоминаниями встают другие, тоже не особенно приятные. Бедность, жалкая обстановка мелких чиновников, всегда угрюмая мать, высокая тощая женщина с строгим выражением на худом лице, постоянно точно будто бы говорившем: «пожалуйста, я не позволю всякому оскорблять меня!» Куча братьев и сестер, ссоры между ними, жалобы матери на судьбу и брань между нею и отцом, когда он являлся пьяным… Гимназия, в которой было так трудно учиться, несмотря на все старания; товарищи, преследовавшие его и неизвестно по какой причине называвшие его крайне обидным названием — «селедкою»; невыдержанный экзамен из русского языка; тяжелая, унизительная сцена, когда он, выключенный из гимназии, пришел домой весь в слезах. Отец спал на клеенчатом диване пьяный, мать возилась в кухне у печки, готовя обед. Увидя Сашу, входящего с книжками и в слезах, она поняла, что случилось, и набросилась на мальчугана с ругательствами, потом кинулась к отцу, разбудила его, втолковала ему, в чем дело, и отец побил мальчика.
Саше было тогда пятнадцать лет. Через два года он поступил на правах вольноопределяющегося в военную службу, а к двадцати годам был уже самостоятельным человеком, прапорщиком пехотного полка…
«Хорошо, — думается ему под одеялом. — Сегодня вечером в клуб… танцы…»
И представляется Александру Михайловичу зала офицерского клуба, полная света, жары, музыки и барышень, которые сидят целыми клумбами вдоль стен и только ждут, чтобы ловкий молодой офицер пригласил на несколько туров вальса. И Стебельков, щелкнув каблуками («жаль, черт возьми, шпор нет!»), ловко изгибается пред хорошенькою майорскою дочерью, грациозно развесив руки, говорит: «permettez»[7], и майорская дочь кладет ему ручку около эполета, и они несутся, несутся…
«Да, это не то, что — селедка. И как глупо; ну почему я селедка? Вот те-то, не селедки, там где-нибудь на первом курсе в университете сидят, голодают, а я… И чего это они непременно в университет? Положим, что жалованья судебный следователь или доктор получает побольше моего, но ведь сколько времени нужно добиваться… и все на свой счет живи. То ли дело у нас: только поступи в училище, а там уж сам поедешь; если будешь хорошо служить, то можно и до генерала… Ух, тогда задал бы я!..» Александр Михайлович и сам не высказал себе, кому бы именно он задал, но воспоминание о «не селедках» в это мгновение мелькнуло у него в душе.
— Никита, — кричит он, — чай у нас есть?
— Никак нет, ваше благородие, весь вышел.
— Сходи, возьми осьмушку.
Он достает из-под подушки новенький кошелек и дает Никите деньги.
Никита идет за чаем. Александр Михайлович продолжает свои размышления, и пока Никита вернулся с чаем, барин уже успел снова уснуть.
— Ваше благородие, ваше благородие! — шепчет Никита.
— Что? А? Принес? Хорошо, я сейчас встану… Давай одеваться.
Александр Михайлович ни дома, ни в училище никогда не одевался иначе, как сам (исключая, разумеется, младенческого возраста), но получив в свое распоряжение денщика, он в две недели совершенно разучился надевать и снимать платье. Никита натягивает на его ноги носки, сапоги, помогает надевать брюки, накидывает ему на плечи летнюю шинель, служащую вместо халата. Александр Михайлович, не умываясь, садится пить чай.