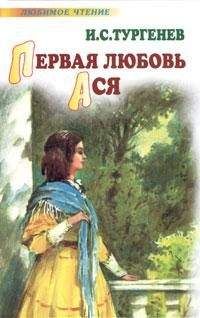– Это какая-то гордячка, – говорила она на следующий день. – И подумаешь – чего гордиться – avec sa mine de grisette![13]
– Ты, видно, не видала гризеток, – заметил ей отец.
– И слава богу!
– Разумеется, слава богу… только как же ты можешь судить о них?
На меня Зинаида не обращала решительно никакого внимания. Скоро после обеда княгиня стала прощаться.
– Буду надеяться на ваше покровительство, Марья Николаевна и Петр Васильич, – сказала она нараспев матушке и отцу. – Что делать! Были времена, да прошли. Вот и я – сиятельная, – прибавила она с неприятным смехом, – да что за честь, коли нечего есть.
Отец почтительно ей поклонился и проводил ее до двери передней. Я стоял тут же в своей куцей куртке и глядел на пол, словно к смерти приговоренный. Обращение Зинаиды со мной меня окончательно убило. Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо меня, она скороговоркой и с прежним ласковым выражением в глазах шепнула мне:
– Приходите к нам в восемь часов, слышите, непременно…
Я только развел руками – но она уже удалилась, накинув на голову белый шарф.
VIIРовно в восемь часов я в сюртуке и с приподнятым на голове коком входил в переднюю флигелька, где жила княгиня. Старик слуга угрюмо посмотрел на меня и неохотно поднялся с лавки. В гостиной раздавались веселые голоса. Я отворил дверь и отступил в изумлении. Посреди комнаты, на стуле, стояла княжна и держала перед собой мужскую шляпу; вокруг стула толпилось пятеро мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею. Увидевши меня, она вскрикнула:
– Постойте, постойте! новый гость, надо и ему дать билет, – и, легко соскочив со стула, взяла меня за обшлаг сюртука. – Пойдемте же, – сказала она, – что вы стоите? Messieurs,[14] позвольте вас познакомить: это мсье Вольдемар, сын нашего соседа. А это, – прибавила она, обращаясь ко мне и указывая поочередно на гостей, – граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, отставной капитан Нирмацкий и Беловзоров, гусар, которого вы уже видели. Прошу любить да жаловать.
Я до того сконфузился, что даже не поклонился никому; в докторе Лушине я узнал того самого черномазого господина, который так безжалостно меня пристыдил в саду; остальные были мне незнакомы.
– Граф! – продолжала Зинаида, – напишите мсье Вольдемару билет.
– Это несправедливо, – возразил с легким польским акцентом граф, очень красивый и щегольски одетый брюнет, с выразительными карими глазами, узким белым носиком и тонкими усиками над крошечным ртом. – Они не играли с нами в фанты.
– Несправедливо, – повторили Беловзоров и господин, названный отставным капитаном, человек лет сорока, рябой до безобразия, курчавый как арап, сутуловатый, кривоногий и одетый в военный сюртук без эполет, нараспашку.
– Пишите билет, говорят вам, – повторила княжна. – Это что за бунт? Мсье Вольдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан. Нечего ворчать, пишите, я так хочу.
Граф пожал плечами, но наклонил покорно голову, взял перо в белую, перстнями украшенную руку, оторвал клочок бумаги и стал писать на нем.
– По крайней мере позвольте объяснить господину Вольдемару, в чем дело, – начал насмешливым голосом Лушин, – а то он совсем растерялся. Видите ли, молодой человек, мы играем в фанты; княжна подверглась штрафу, и тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у ней ручку. Поняли ли вы, что я вам сказал?
Я только взглянул на него и продолжал стоять как отуманенный, а княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Все к ней потянулись – и я за другими.
– Майданов, – сказала княжна высокому молодому человеку с худощавым лицом, маленькими слепыми глазками и чрезвычайно длинными черными волосами, – вы, как поэт, должны быть великодушны и уступить ваш билет мсье Вольдемару, так, чтобы у него было два шанса вместо одного.
Но Майданов отрицательно покачал головой и взмахнул волосами. Я после всех опустил руку в шляпу, взял и развернул билет… Господи! что сталось со мною, когда я увидал на нем слово: поцелуй!
– Поцелуй! – вскрикнул я невольно.
– Браво! он выиграл, – подхватила княжна. – Как я рада! – Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилось. – А вы рады? – спросила она меня.
– Я?.. – пролепетал я.
– Продайте мне свой билет, – брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров. – Я вам сто рублей дам.
Я отвечал гусару таким негодующим взором, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул: молодец!
– Но, – продолжал он, – я, как церемониймейстер, обязан наблюдать за исполнением всех правил. Мсье Вольдемар, опуститесь на одно колено. Так у нас заведено.
Зинаида стала передо мной, наклонила немного голову набок, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня, и с важностью протянула мне руку. У меня помутилось в глазах; я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба – и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка оцарапал себе конец носа ее ногтем.
– Добре! – закричал Лушин и помог мне встать.
Игра в фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возле себя. Каких ни придумывала она штрафов! Ей пришлось, между прочим, представлять «статую» – и она в пьедестал себе выбрала безобразного Нирмацкого, велела ему лечь ничком, да еще уткнуть лицо в грудь. Хохот не умолкал ни на мгновение. Мне, уединенно и трезво воспитанному мальчику, выросшему в барском степенном доме, весь этот шум и гам, эта бесцеремонная, почти буйная веселость, эти небывалые сношения с незнакомыми людьми так и бросились в голову. Я просто опьянел, как от вина. Я стал хохотать и болтать громче других, так что даже старая княгиня, сидевшая в соседней комнате с каким-то приказным от Иверских ворот, позванным для совещания, вышла посмотреть на меня. Но я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов. Зинаида продолжала оказывать мне предпочтение и не отпускала меня от себя. В одном штрафе мне довелось сидеть с ней рядом, накрывшись одним и тем же шелковым платком; я должен был сказать ей свой секрет. Помню я, как наши обе головы вдруг очутились в душной, полупрозрачной, пахучей мгле, как в этой мгле близко и мягко светились ее глаза и горячо дышали раскрытые губы, и зубы виднелись, и концы ее волос меня щекотали и жгли. Я молчал. Она улыбалась таинственно и лукаво и, наконец, шепнула мне: «Ну, что же?», а я только краснел и смеялся, и отворачивался, и едва переводил дух. Фанты наскучили нам, – мы стали играть в веревочку. Боже мой! какой я почувствовал восторг, когда, зазевавшись, получил от ней сильный и резкий удар по пальцам, и как потом я нарочно старался показывать вид, что зазевываюсь, а она дразнила меня и не трогала подставляемых рук!
Да то ли мы еще проделывали в течение этого вечера! Мы и на фортепьяно играли, и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор. Нирмацкого одели медведем и напоили водою с солью. Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетасовавши карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин «имел честь его поздравить». Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца» (дело происходило в самом разгаре романтизма), которую он намеревался издать в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета, у приказного от Иверских ворот украли с колен шапку и заставили его, в виде выкупа, проплясать казачка; старика Вонифатия нарядили в чепец, а княжна надела мужскую шляпу… Всего не перечислишь. Один Беловзоров все больше держался в углу, нахмуренный и сердитый… Иногда глаза его наливались кровью, он весь краснел, и казалось, что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас, как щепки, во все стороны; но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол.
Мы, наконец, выбились из сил. Княгиня уж на что была, как сама выражалась, ходка – никакие крики ее не смущали, – однако и она почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. В двенадцатом часу ночи подали ужин, состоявший из куска старого, сухого сыру и каких-то холодных пирожков с рубленой ветчиной, которые мне показались вкуснее всяких паштетов; вина была всего одна бутылка, и та какая-то странная: темная, с раздутым горлышком, и вино в ней отдавало розовой краской: впрочем, его никто не пил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля; на прощанье Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась.
Ночь тяжело и сыро пахнула мне в разгоряченное лицо; казалось, готовилась гроза; черные тучи росли и ползли по небу, видимо меняя свои дымные очертания. Ветерок беспокойно содрогался в темных деревьях, и где-то далеко за небосклоном, словно про себя, ворчал гром сердито и глухо.