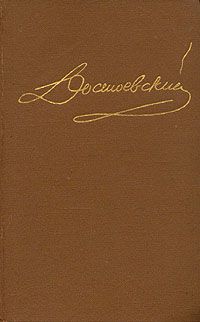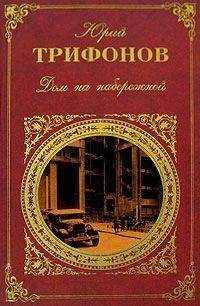— Пойдемте все в нашу сборную, — сказала она, — и кофе туда принесут. У нас такая общая комната есть, — обратилась она к князю, уводя его, — попросту моя маленькая гостиная, где мы, когда одни сидим, собираемся и каждая своим делом занимается: Александра, вот эта, моя старшая дочь, на фортепиано играет, или читает, или шьет; Аделаида — пейзажи и портреты пишет (и ничего кончить не может), а Аглая сидит, ничего не делает. У меня тоже дело из рук валится: ничего не выходит. Ну вот и пришли; садитесь, князь, сюда, к камину, и рассказывайте. Я хочу знать, как вы рассказываете что-нибудь. Я хочу вполне убедиться, и когда с княгиней Белоконской увижусь, со старухой, ей про вас всё расскажу. Я хочу, чтобы вы их всех тоже заинтересовали. Ну, говорите же.
— Maman, да ведь этак очень странно рассказывать, — заметила Аделаида, которая тем временем поправила свой мольберт, взяла кисти, палитру и принялась было копировать давно уже начатый пейзаж с эстампа. Александра и Аглая сели вместе на маленьком диване и, сложа руки, приготовились слушать разговор. Князь заметил, что на него со всех сторон устремлено особенное внимание.
— Я бы ничего не рассказала, если бы мне так велели, — заметила Аглая.
— Почему? Что тут странного? Отчего ему не рассказывать? Язык есть. Я хочу знать, как он умеет говорить. Ну, о чем-нибудь. Расскажите, как вам понравилась Швейцария, первое впечатление. Вот вы увидите, вот он сейчас начнет, и прекрасно начнет.
— Впечатление было сильное… — начал было князь.
— Вот-вот, — подхватила нетерпеливая Лизавета Прокофьевна, обращаясь к дочерям, — начал же.
— Дайте же ему по крайней мере, maman, говорить, — остановила ее Александра. — Этот князь, может быть, большой плут, а вовсе не идиот, — шепнула она Аглае.
— Наверно так, я давно это вижу, — ответила Аглая. — И подло с его стороны роль разыгрывать. Что он, выиграть, что ли, этим хочет?
— Первое впечатление было очень сильное, — повторил князь. — Когда меня везли из России, чрез разные немецкие города, я только молча смотрел и, помню, даже ни о чем не расспрашивал. Это было после ряда сильных и мучительных припадков моей болезни, а я всегда, если болезнь усиливалась и припадки повторялись несколько раз сряду, впадал в полное отупение, терял совершенно память, а ум хотя и работал, но логическое течение мысли как бы обрывалось. Больше двух или трех идей последовательно я не мог связать сряду. Так мне кажется. Когда же припадки утихали, я опять становился и здоров и силен, вот как теперь. Помню: грусть во мне была нестерпимая; мне даже хотелось плакать; я всё удивлялся и беспокоился: ужасно на меня подействовало, что всё это чужое; это я понял. Чужое меня убивало. Совершенно пробудился я от этого мрака, помню я, вечером, в Базеле, при въезде в Швейцарию, и меня разбудил крик осла на городском рынке. Осел ужасно поразил меня и необыкновенно почему-то мне понравился, а с тем вместе вдруг в моей голове как бы всё прояснело.
— Осел? Это странно, — заметила генеральша. — А впрочем, ничего нет странного, иная из нас в осла еще влюбится, — заметила она, гневливо посмотрев на смеявшихся девиц. — Это еще в мифологии было.* Продолжайте, князь.
— С тех пор я ужасно люблю ослов. Это даже какая-то во мне симпатия. Я стал о них расспрашивать, потому что прежде их не видывал, и тотчас же сам убедился, что это преполезнейшее животное, рабочее, сильное, терпеливое, дешевое, переносливое; и чрез этого осла мне вдруг вся Швейцария стала нравиться, так что совершенно прошла прежняя грусть.
— Всё это очень странно, но об осле можно и пропустить; перейдемте на другую тему. Чего ты всё смеешься, Аглая? И ты, Аделаида? Князь прекрасно рассказал об осле. Он сам его видел, а ты что видела? Ты не была за границей?
— Я осла видела, maman, — сказала Аделаида.
— А я и слышала, — подхватила Аглая. Все три опять засмеялись. Князь засмеялся вместе с ними.
— Это очень дурно с вашей стороны, — заметила генеральша. — Вы их извините, князь, а они добрые. Я с ними вечно бранюсь, но я их люблю. Они ветрены, легкомысленны, сумасшедшие.
— Почему же? — смеялся князь. — И я бы не упустил на их месте случай. А я все-таки стою за осла: осел добрый и полезный человек*.
— А вы добрый, князь? Я из любопытства спрашиваю, — спросила генеральша.
Все опять засмеялись.
— Опять этот проклятый осел подвернулся; я о нем и не думала! — вскрикнула генеральша. — Поверьте мне, пожалуйста, князь, я без всякого…
— Намека? О, верю, без сомнения!
И князь смеялся не переставая.
— Это очень хорошо, что вы смеетесь. Я вижу, что вы добрейший молодой человек, — сказала генеральша.
— Иногда недобрый, — отвечал князь.
— А я добрая, — неожиданно вставила генеральша, — и, если хотите, я всегда добрая, и это мой единственный недостаток, потому что не надо быть всегда доброю. Я злюсь очень часто, вот на них, на Ивана Федоровича особенно, но скверно то, что я всего добрее, когда злюсь. Я давеча, пред вашим приходом, рассердилась и представилась, что ничего не понимаю и понять не могу. Это со мной бывает; точно ребенок. Аглая мне урок дала; спасибо тебе, Аглая. Впрочем, всё вздор. Я еще не так глупа, как кажусь и как меня дочки представить хотят. Я с характером и не очень стыдлива. Я, впрочем, это без злобы говорю. Поди сюда, Аглая, поцелуй меня, ну… и довольно нежностей, — заметила она, когда Аглая с чувством поцеловала ее в губы и в руку. — Продолжайте, князь. Может быть, что-нибудь и поинтереснее осла вспомните.
— Я опять-таки не понимаю, как это можно так прямо рассказывать, — заметила опять Аделаида, — я бы никак не нашлась.
— А князь найдется, потому что князь чрезвычайно умен и умнее тебя по крайней мере в десять раз, а может, и в двенадцать. Надеюсь, ты почувствуешь после этого. Докажите им это, князь; продолжайте. Осла и в самом деле можно наконец мимо. Ну, что вы, кроме осла, за границей видели?
— Да и об осле было умно, — заметила Александра, — князь рассказал очень интересно свой болезненный случай и как всё понравилось чрез один внешний толчок. Мне всегда было интересно, как люди сходят с ума и потом опять выздоравливают. Особенно если это вдруг сделается.
— Не правда ли? Не правда ли? — вскинулась генеральша. — Я вижу, что и ты иногда бываешь умна; ну, довольно смеяться! Вы остановились, кажется, на швейцарской природе, князь, ну!
— Мы приехали в Люцерн, и меня повезли по озеру. Я чувствовал, как оно хорошо, но мне ужасно было тяжело при этом, — сказал князь.
— Почему? — спросила Александра.
— Не понимаю. Мне всегда тяжело и беспокойно смотреть на такую природу в первый раз; и хорошо, и беспокойно; впрочем, всё это еще в болезни было.
— Ну нет, я бы очень хотела посмотреть, — сказала Аделаида. — И не понимаю, когда мы за границу соберемся. Я вот сюжета для картины два года найти не могу:
Восток и Юг давно описан…*
Найдите мне, князь, сюжет для картины.
— Я в этом ничего не понимаю. Мне кажется, взглянуть и писать.
— Взглянуть не умею.
— Да что вы загадки-то говорите? Ничего не понимаю! — перебила генеральша. — Как это взглянуть не умею? Есть глаза, и гляди. Не умеешь здесь взглянуть, так и за границей не выучишься. Лучше расскажите-ка, как вы сами-то глядели, князь.
— Вот это лучше будет, — прибавила Аделаида. — Князь ведь за границей выучился глядеть.
— Не знаю; я там только здоровье поправил; не знаю, научился ли я глядеть. Я, впрочем, почти всё время был очень счастлив.
— Счастлив! Вы умеете быть счастливым? — вскричала Аглая. — Так как же вы говорите, что не научились глядеть? Еще нас поучите.
— Научите, пожалуйста, — смеялась Аделаида.
— Ничему не могу научить, — смеялся и князь, — я всё почти время за границей прожил в этой швейцарской деревне; редко выезжал куда-нибудь недалеко; чему же я вас научу? Сначала мне было только нескучно; я стал скоро выздоравливать; потом мне каждый день становился дорог, и чем дальше, тем дороже, так что я стал это замечать. Ложился спать я очень довольный, а вставал еще счастливее. А почему это всё — довольно трудно рассказать.
— Так что вам уж никуда и не хотелось, никуда вас не позывало? — спросила Александра.
— Сначала, с самого начала, да, позывало, и я впадал в большое беспокойство. Всё думал, как я буду жить; свою судьбу хотел испытать, особенно в иные минуты бывал беспокоен. Вы знаете, такие минуты есть, особенно в уединении. У нас там водопад был, небольшой, высоко с горы падал и такою тонкою ниткой, почти перпендикулярно, — белый, шумливый, пенистый; падал высоко, а казалось, довольно низко, был в полверсте, а казалось, что до него пятьдесят шагов. Я по ночам любил слушать его шум; вот в эти минуты доходил иногда до большого беспокойства. Тоже иногда в полдень, когда зайдешь куда-нибудь в горы, станешь один посредине горы, кругом сосны, старые, большие, смолистые; вверху на скале старый замок средневековый, развалины; наша деревенька далеко внизу, чуть видна; солнце яркое, небо голубое, тишина страшная. Вот тут-то, бывало, и зовет всё куда-то, и мне всё казалось, что если пойти всё прямо, идти долго-долго и зайти вот за эту линию, за ту самую, где небо с землей встречается, то там вся и разгадка, и тотчас же новую жизнь увидишь, в тысячу раз сильней и шумней, чем у нас; такой большой город мне всё мечтался, как Неаполь, в нем все дворцы, шум, гром, жизнь… Да мало ли что мечталось! А потом мне показалось, что и в тюрьме можно огромную жизнь найти.