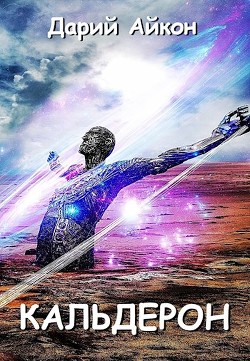обложке «Журнала для женщин» и «Новостей суфражизма».
От меня никто не ждал разговоров, но на Луэллу папа взглянул строго, чтобы она по меньшей мере не грубила. Но сестра только смотрела, удавленная едва ли не впервые в жизни.
Мисс Милхолланд наша неловкость не задела.
— Очень рада встрече с вами обеими. — Переведя взгляд бархатных карих глаз на папу, она улыбнулась шире. — Может быть, вы покурите со мной? Здесь очень жарко, мне хотелось бы подышать воздухом.
Она чуть приподняла руку, и тонкая ткань натянулась на бедрах. Папа немедленно подхватил ее под руку, и они вышли.
Луэлла бросила вилку на тарелку.
— И откуда папа ее знает?! — воскликнула она, ехидно улыбаясь. — Она гораздо современнее, чем то, что он одобряет. Пошли еще на нее посмотрим.
Она вытащила меня из-за стола, и мы выбежали из ресторана на яркую, шумную улицу. Мы не сразу заметили папу, который подсаживал Инес в открытое такси. Мимо нас прошла пара, и я почувствовала удушливо-сладкий запах гардении. Луэлла рванулась вперед и тут же застыла на месте — папа наклонился и поцеловал ярко-алые губы Инес Милхолланд. Поцелуй длился целую вечность, и мы не могли пошевелиться.
Луэлла развернулась. С лица ее схлынула краска, а глаза превратились в крошечные гневные щелочки. Несмотря на свою бунтарскую натуру, Луэлла принадлежала к тому же миру, что и отец. Она шалила, но лишь потому что считала это безопасным. Мы обе верили, что наш папа — принципиальный и щепетильный человек, что он приструнит ее, если она зайдет слишком далеко, как сделал бы любой хороший родитель. Ей это могло не нравиться, но она уважала естественный порядок вещей.
Когда этот порядок рухнул, она разозлилась по-настоящему.
Она втолкнула меня назад в зал и усадила за стол. Мы сидели молча. От звона приборов и голосов вокруг у меня по коже пошли мурашки. Картофель показался рыхлым, а подливка комковатой. Я прикусила щеку изнутри так, что пошла кровь. Я хотела придумать для папы оправдание, куда-то деть эту женщину, но не могла.
Луэлла водрузила локти на стол и уставилась на граненую солонку так внимательно, будто хотела пересчитать все крупинки соли. Ее молчание меня пугало. Ей всегда было что сказать.
Папа вернулся радостный и спокойный, как будто ничего не произошло. Он уселся за стол и закинул руку на спинку стула с видом крайнего превосходства. Я искала красные следы у него на губах, но ничего не увидела.
Мы с Луэллой так никогда и не обсудили этого, но я знала, что сестра не простила именно его высокомерия, а вовсе не поцелуя. Если бы он был нервным, дерганым, испуганным, мы бы убедили себя, что мораль не пострадала. Страсть ослепила его. Но он вовсе не выглядел подавленным. После греховной встречи с женщиной отец оставался веселым, добродушным и гордым.
Впервые я посмотрела на него не как на своего отца, а как на мужчину, которому было дано все. Я вспомнила тот вечер, когда мне исполнилось восемь лет и когда он ходил по гостиной после моего визита к врачу. Может быть, его тогдашний гнев не имел никакого отношении к моей близком смерти. Может быть, он кричал на врача, когда я родилась, не потому, что считал меня сильной и крепкой, а потому что отказывался верить, что у него могут отнять нечто желанное.
Наше открытие раздавило меня. Мне было больно смотреть в яркие синие глаза отца, когда он махнул рукой, подзывая официанта. Я вспомнила маму в строгих платьях и ее вечерний крем, ее гордость за то, что папа женился на ней, несмотря на шрамы и некрасивые руки. Я вспомнила слова тех женщин в гостиной: «Не представляю, что за чары Жанна наложила на Эмори, когда он за ней ухаживал, но я бы на ее месте не рисковала». Мама рискнула, злобно подумала я. Она рискнула из-за своих шрамов. И не ее вина, что чары рассеялись.
Когда мы вернулись домой, Луэлла заперлась в своей комнате, не сказав мне ни слова. Я пыталась заниматься, но, не сумев сосредоточиться, передвинула стул к открытому окну и попробовала придумать рассказ. Занавески трепетали на ветру. Солнце лило расплавленное пыльное золото мне на колени, и я чувствовала запах весны и новизны. В голову ничего не приходило.
О писательстве я говорила с отцом. Мама считала это глупым времяпрепровождением и смотрела на мои рассказы с рассеянной улыбкой, как на детские каракули. Папа воспринимал меня всерьез. Каждое воскресное утро он складывал газету, опускал ее на стол рядом с тарелкой и смотрел на меня так, будто вдруг вспомнил что-то очень важное.
— А где мой рассказ, орешинка? Ты про меня не забыла?
Я никогда не забывала. Я торжественно протягивала папе тетрадь, пролежавшую на коленях весь завтрак. Недавно папа начал носить очки, что только придавало ему более солидный вид. Он надевал их при чтении, кивал, улыбался, гримасничал, а порой даже от души хохотал. Луэлла и мама завтракали, как обычно, болтали, мазали на хлеб джем, подливали себе кофе, пока я сидела, стиснув руки, и ждала, когда папа поднимет голову и скажет: «Молодец, орешинка! Очень хорошо!»
Потом следовала честная критика. Он рассказывал мне, что вышло хорошо, а что — не очень, вел себя со мной, как с писателем, достойным его советов.
В оконном стекле я увидела свое отражение — бледная, худая, губы тонкие, будто карандашом нарисованные. Я никогда не стану пользоваться помадой. Чтобы папе не было стыдно. Я стянула перчатки и подняла руки к свету. Ногти были неровные, желтовато-белые. Они казались отвратительными, но я все же вынуждала себя смотреть на них, представляя Бога в виде уродливого гиганта, который льет из большого кувшина растопленный жир. Капли падают на пальцы и застывают комками. Может быть, я напишу для папы мрачную историю. Но кого теперь волнует, что он подумает? Его советы мне больше не нужны.
В шесть я спустилась к ужину, хотя не хотела никого видеть, даже Луэллу, которая, к моему удивлению, уже сидела за столом. Я устроилась напротив, радуясь, что она