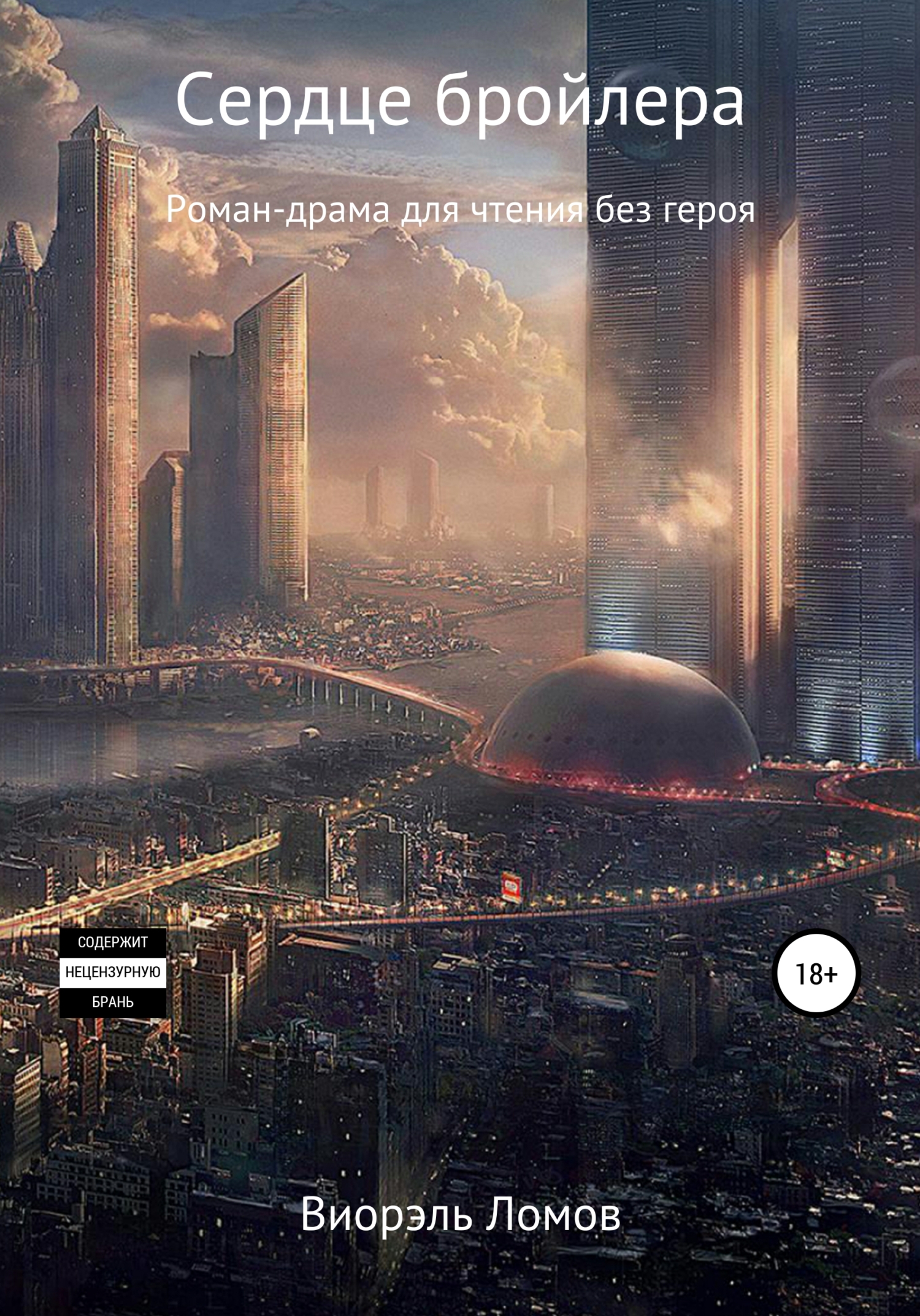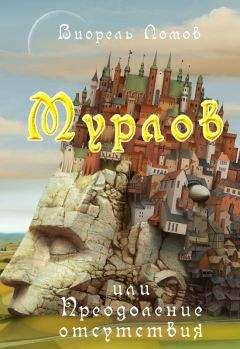что-то делают. То же, что и прозаики. Пьют-с.
Поэту достаточно несколько строк, чтобы тронуть сердце читателя. У прозаика тоже есть такая возможность, но для этого он должен быть поэтом.
Хорош рассказ, когда его не читают, а думают. Хорош стих, когда его не думают, а поют.
Запомни, поэт: Пушкин с тростью на Тверском бульваре не совсем то же, что ты с авоськой на улице Ленина. Да и босой Толстой с сохой мало походит на прозаика.
Поэт пишет строчки, которые прозаику не придут даже в голову.
Поэтический дар – от Бога, но почему-то многие разменивают его на прозаический дар от черта.
Поэты создают мир из атомов, на которые разлетелся мир прозаиков.
Чтобы родиться прозаиком, надо умереть поэтом.
Умирая, прозаик теряет мир, а поэт его обретает.
В поэзии, в отличие от прозы, одно плохо – она должна быть хорошей с первой строки до последней.
Ничтожно все, к чему прозаик прикасался. Возвышенно, о чем всегда мечтал поэт.
Прозаики и поэты населяют свои миры собой. У поэтов они только повоздушнее, что ли.
Поэзия – небрежность, проза – снисходительность.
Один писатель может простить другому всё, кроме успеха. Поэт – еще успеха у Девы, а прозаик – у критикесс.
Прозаику достаточно написать одно стихотворение, чтобы перечеркнуть все свое прозаическое прошлое и поставить крест на поэтическом будущем. А поэту стоит потрудиться, чтобы быть погребенным под завалами прозаической эпопеи.
***
Последняя (еще горячая) находка в этой серии: поэзия – это детство души, а проза – ее старость.
И напоследок о блаженстве
В далекий-далекий, чуть ли не два миллиона лет назад, солнечный день я, семилетний, ушел далеко от дома, очень далеко. Никогда еще я не уходил так далеко от дома. Мне тогда казалось, что я ушел вообще на край света. Вниз по реке, к спрятанной в густых зарослях заводи.
Заводь казалась мне бездонной. Ни души кругом. Я нежился в воде, теплой и зеленой. Пару раз нырнул, не открывая глаз, но дна не достал. А так хотелось ногами коснуться мягкого прохладного ила. Почувствовать, как ил скользит, журчит меж пальцев, наползает на лодыжки, икры… Несколько секунд я пребывал в жуткой неопределенности своего положения. От ощущения холодной скользкой бездны подо мной меня охватил сладкий ужас. Но уже через пять минут я забыл обо всём: о бездне, своем одиночестве, забыл о громадном грозном мире, в который я попал.
Я лежал на спине, раскинув руки и шевеля ими и ногами так, чтобы вода не заливалась в нос, и испытывал неизъяснимое блаженство. Счастье я ощущал комком в горле, оно не угасло во мне до сих пор. Тогда же я впервые ощутил и безмерность мира. Как муравей, заползший на быка, навсегда уносимый от муравейника.
День был знойный, всё замерло, марево дрожало в голубом и зеленом ослепительном свете. Казалось, весь мир гляделся в воду, как в зеркало; и небо, и деревья, и сама вода многократно отражались друг в друге, переливались, ища устойчивую форму.
Вдруг инстинктивно я почуял опасность. Поднял голову. В метре от меня, словно торпеда, вспарывая воду, бесшумно скользила гадюка. Я услышал, как трещит мир, увидел, как из воды всплывает чудовище с маленькой змеиной головкой…
Не помня себя, я стал кричать, бить по воде руками и ногами, нырнул к камышам, выскочил на берег и, не разбирая дороги, помчался от реки куда-то в степь…
Очнулся я от жара. В ушах стоял звон раскаленной зноем степи. И чей-то голос шептал мне: «Это не гадюка была, а уж».
Как быстро была нарушена моя безмятежная радость мыслью об опасности! Как хрупка оказалась моя – пусть детская способность быть разумным!
***
Еще жива была Молли и черная, как пантера, кошка Лиза…
Сидел я на кухне и в безмятежном состоянии духа поглощал творожный сырок в шоколадной глазури. Из приемника лилась нежная мелодия Дебюсси. Было утро. За окном чирикали воробьи. На полу Молли задумчиво грызла кость. Лиза сидела на табуретке и глядела на меня круглыми глазами, в которых под бесстрастной желтизной, нет-нет, да и проблескивал слабый интерес к пище…
Наскучив сидеть, Лиза спрыгнула с табуретки, и я, понятно, тут же забыл о ней. Но она сама напомнила о себе.
Еще таяла мелодия Дебюсси, во рту таял сырок, Молли тоже от восторга закатывала глаза, как вдруг страшный грохот обрушился на нас, и со всех сторон на пол посыпались кастрюли, банки, гречка, рис, сахар. Валилось из шкафа, падало с подоконника.
Лиза, как ворона, перелетела через ошалевшую Молли, взлетела по ковру на шкаф и улеглась там, а Молли чуть не поперхнулась от страха и, выбив дверь в мою комнату, забилась под стол.
Оказывается, Лиза, не дождавшись от меня милостей, решила сама взять их в свои лапы. Открыла дверцу шкафа, залезла на верхнюю полку, неосторожно повернулась там – контейнер с гречкой стал клониться и падать, Лиза спрыгнула на пол, смахнув всё, что было на полке, с пола метнулась на подоконник, снесла и с него все банки с кастрюлей, и, преследуемая грохотом и звоном, смылась с места преступления.
Я с трудом проглотил ставший вдруг сухим сырок и благодарил Провидение, что в этот миг ел его, а не грыз, как Молли, кость или сухарь.
Было, было у меня садистское желание – прикрепить Лизу к палке и, как шваброй, смести ею весь образовавшийся мусор.
Глянув в мои добрые глаза, Лиза всё поняла и тут же шмыгнула под диван.
Молли ходила вокруг меня, колотила по стенам и моим ногам хвостом и, как могла, утешала меня и даже помогла подмести кухню, выбрала для этого кучку сахарного песка и со вздохом брякнулась на нее своей широкой грудью и ненасытным брюхом…
А я сидел на табуретке, глядел на Молли и думал о том, как хорошо поутру бежать с ней по тропинке навстречу восходу…
Солнце слепит. Всё, что вблизи, покрыто яркими пятнами, засохшие травинки и соломинки на земле блестят, как золотые нити, роса на траве, как жемчуг, а дальше сплошное черное пятно, вспыхивающее еще более черным огнем; сама тропинка льется ровной полосой серебряного расплава, и следы лап бегущей впереди собаки проявляются на ней через пару мгновений, когда она уже бежит на три корпуса впереди этого места, будто бежит собака-невидимка. А над рекой туман, и кажется, что река эта – и есть та самая река, что уносит в невозвратные туманные дали…
Боже, каким