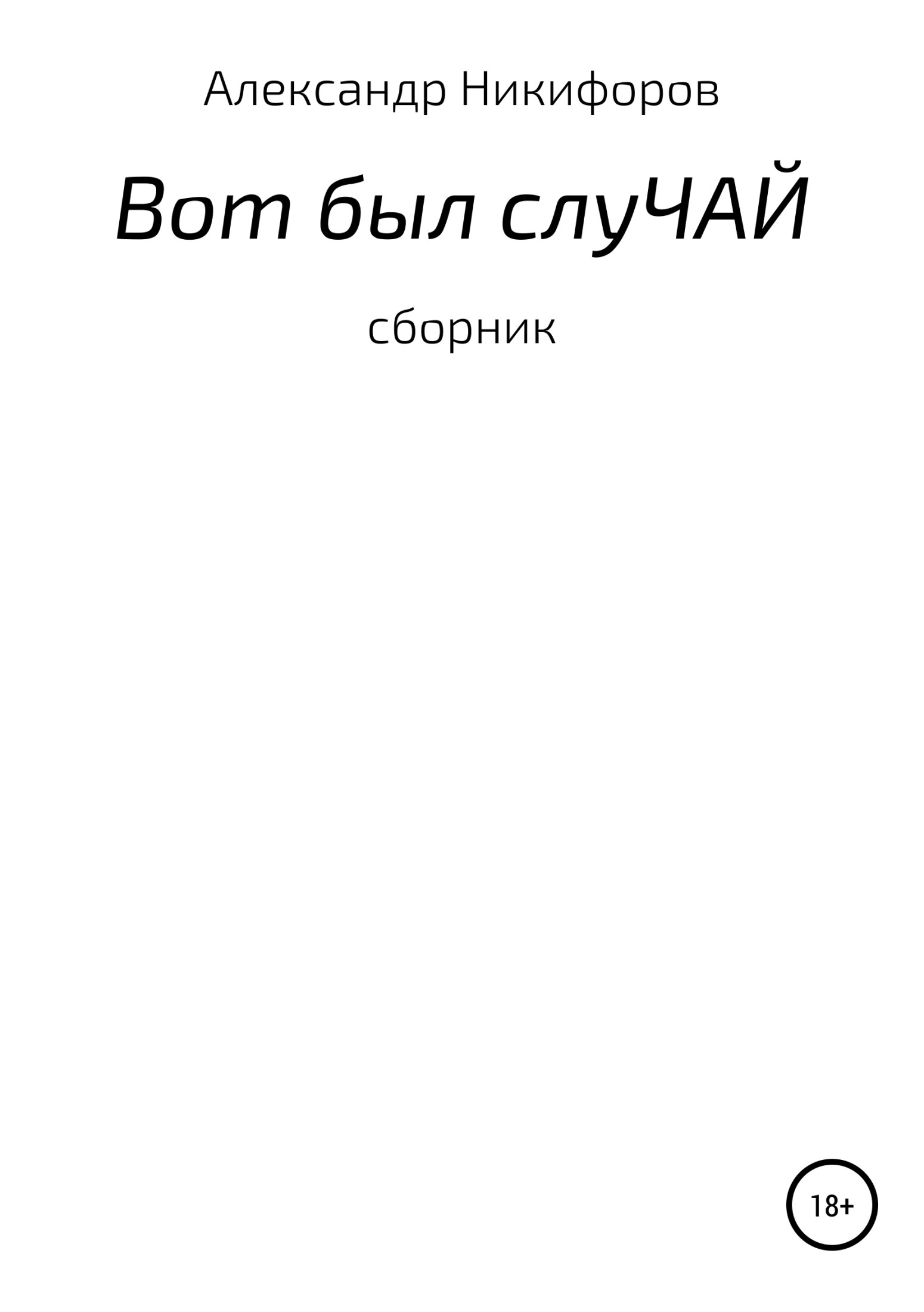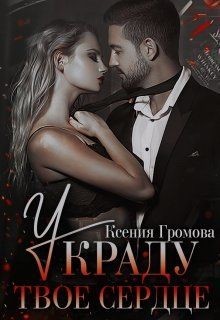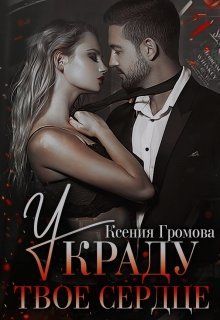невыразимыми словами удовольствием, огромными глотками, поглощаю содержимое. Пиво, вкусное, на удивление, ни капли не разбавленное. Выпив, взираю на Степановича
4
– Замели, Серегу. И «Маруську» мне подварить не успел. Витька старшина, сказал, что пятнадцать суток, как с куста,– поясняет тот.
– А меня не искали? – осторожно спрашиваю я, так как не помню вчерашний вечер, но помню, что пришли мы с Серегой, вместе.
– Тебе-то чего беспокоиться? – удивляется Степанович, – тебя же жена, по дороге с работы захомутала, и домой отконвоировала. Она у тебя баба огонь. Как ни сопротивлялся, все равно вырвала тебя из стройных рядов коллектива. Ты чуть дверку у моей красавицы не оторвал, отцепляться не хотел.
– Всю одежду в ванне замочила, – делюсь я с ним, распахнув куртку, обнажая свой голый торс и красные шаровары.
– Сейчас тепло, голышом по улице скакать можно, не январь месяц, – даже не взглянув, равнодушно тянет Степанович.
– А Серегу-то? Жена, что ли сдала? – пытаюсь выяснить причины, приведшие к лишению Сереги свободы, – подарок не понравился?
– Это ты про пудреницу? – воскликнул ветеран, – так он ее Клавке подарил. Пудра закончилась, он и отдал. Она ему за это пристанище обещала, если домой не пустят. Это при тебе еще было, ты чего, не помнишь?
– «Ерш» вчера, уж больно колючий был, – туманно отвечаю я.
– А как зеркальце твое, об столик грохнули, тоже не помнишь?
Я отрицательно качаю головой.
–Подлечись, – кивает Степанович, на полную кружку пива.
– Да я, – от глубочайшей благодарности, у меня перехватывает горло, – как только, так сразу. Вдвойне.
– Хлебай, – подмигивает Степанович.
Делаю два глубоких глотка, на место их, Степанович, доливает водки. «Ерш» начинает шипеть.
– Где, говоришь, зеркальце?– спрашиваю, дожидаясь, пока «ерш» устроиться в мозгах.
– В манде, – усмехается ветеран, – ты вчера этим зеркальцем, зайчиков на баб, проходящих, стал наводить. Да еще и орал на всю улицу, – гляньте, мужики, вот это «буфера»! После очередных «буферов» к тебе громила подошел. Шкаф, ну такой, трехстворчатый, один в один. Телохранитель видно «буферов». Спросил у тебя сначала вежливо, – Ты куда, чучело обожранное, светишь? Ты ему в ответ, – Кого, мол, волнует, куда я свечу? Он у тебя зеркало вырвал, и сказал, что сейчас тебя расцветит, хотел его сначала об голову твою разбить. Но ты в ответ вскочил, размахнулся, но упал, что тебя и спасло. Тогда он саданул зеркало об стол и ушел. Серега тебя поднял, уже без зеркала, но живого и даже не « засвеченного».
– Я за него вчера пятерку отдал. Трофей из Берлина. Жене купил, – пожалел я подарок.
– Дорого взял. У них там добро этого завались. Помню я в 45-ом в Берлине этом, я в госпитале… – начал ветеран.
– С Серегой чего? – быстренько прервал я его, боясь, что он удариться во фронтовые воспоминания.
– А чего с Серегой? А, – вырвался из цепких лап воспоминаний Степанович, – Серега домой пошел. Дверь открыл, лег на диван и уснул. Утром хозяйка пришла со смены, чуть в «ящик» не сыграла. Спит в ее квартире, совершенно чужой мужик. Она будить его бросилась, а он отмахивается. Обещает еще, что если приставания не прекратит, спать он с ней больше не будет. После этих его слов, она сразу милицию вызвала.
– Да обломался, он, конкретно, – трясущими от волнения руками, прикуриваю я, – А здесь-то он как?
– Витька привез. Здоровье поправить. Пятнадцать суток обеспеченно, сказал. И то это если в суде, оскорбление личности не припаяют, – отвечает Степанович.
– А кого он оскорбил? – не понимаю я.
– Как кого? А бабу? Спать, говорит, с тобой не буду. Она так в заявление и указала « в извращенном виде, словами, оскорбил мое женское достоинство».
– Ну не сволочи ли, Степанович? Налей, пожалуйста. Какие мужики, через этих, этих…
Отчетливо ощущаю на боках, увесистые удары, причем ногами. Больновато. Когда в комнатных тапках, или босыми ногами, не так больно. А тут ощутимо больновато. Хотя удары, знакомые, привычные.
5
И понятно, почему больно – жена только, что с работы вернулась, и туфли красные, свои остроносые туфли, еще не успела снять. В них и охаживает меня по бокам. Надо собираться с силами и подниматься, а то она чего-то в квартире, разуваться, не торопиться. Хоть напомню, про уличную обувь.
С трудом, но начинаю приподниматься. Удары прекращаются. Вместо них начинается монолог. В голове крутиться четверостишье, навеки вбитое школьной программой «Словом можно убить, словом можно спасти. Словом можно полки, за собой повести». Как я понимаю, в данный, конкретный момент, пронизывающую правду поэта.
– Алкоголик, опоек, пьянь подзаборная, – высказывается жена. Она этого могла бы и не говорить, я и сам могу все это сказать, ее же словами.
– Нормальные мужики, как мухи мрут, не задерживаются на этом свете. А таким, хоть бы хны. Наспиртовались, как пауки в банках, и сосут нашу кровь, – продолжается монолог моей половины.
По опыту знаю, тут главное не прерывать, дать высказаться. Плохо же, когда в себе носит. Тем более, кого же она еще, да такими словами, кроме меня, «благословлять» может. Не поймут же.
Опираясь на диван, преодолеваю первую высоту, встаю на четвереньки.
Пару минут, в такой позе отдыхаю. Потом, сжав всю свою волю в кулак, встаю на ноги.
– А может нас обокрали? Пришла, дверь нараспашку, хоть святых выноси. Сторож в зюзю, на полу, ни гавкнуть, ни мяукнуть, – прерывается монолог пинком, по левой ягодице.
– Вот, моду взяла. Больно же, – прошу я, отодвигаюсь на безопасное расстояние. Сил на активное сопротивление совсем нет, иссякли, пока поднимался.
– Туфли хоть бы сняла, пыльные же с улицы, – проявляю я хитрость.
– Туфли чистые, не переживай. Налакировала даже, пока тебя добудилась. Указывать он мне будет, в чем по квартире ходить. Дружкам – алкоголикам, своим, указывай.
– Ничего я тебе, не указываю. Ходи в чем хочешь. У меня может горе, горькое, вот и выпил, – стараюсь оправдаться я.
– Неужели «Юбку» закрывают? – с надеждой, интересуется жена.
– Хуже. Серегу, сварного нашего, на пятнадцать суток посадили, – тоном, приговоренного к высшей мере, поясняю я.
– Да ты что? – восклицает моя половина, – вот жена-то обрадовалась. Я за то смотрю, вся сияющая, мимо меня пролетела. Свечку, наверное, пудовую побежала ставить. В благодарность, за две недели, спокойной жизни. И тебя предупреждаю: если еще раз, бабки мне скажут, что ты мимо их прополз. Даже домой заходить, чтоб на тебя посмотреть, не стану. Сразу к участковому. Пусть тебя на годик в ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий) оформит. Я хоть отдохну спокойно.
– Я что тебе, хроник конченный? Хочешь, давай зашьюсь, – взываю я к милосердию. Слова эти, надежные как выстрел.