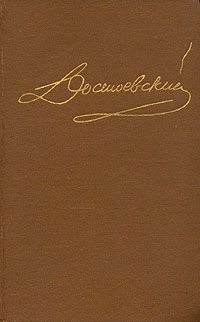— Полноте-с, я совсем не стою-с, — лепетала она, стараясь поднять его на кровать.
— Спасительница моя, — благоговейно сложил он
пред нею руки. — Vous êtes noble comme une marquise![278]
— Я негодяй! О, я всю жизнь был бесчестен…
— Успокойтесь, — упрашивала Софья Матвеевна.
— Я вам давеча все налгал, — для славы, для роскоши, из праздности, — всё, всё до последнего слова, о негодяй, негодяй!
Холерина перешла, таким образом, в другой припадок, истерического самоосуждения. Я уже упоминал об этих припадках, говоря о письмах его к Варваре Петровне. Он вспомнил вдруг о Lise, о вчерашней встрече утром: «Это было так ужасно и — тут, наверно, было несчастье, а я не спросил, не узнал! Я думал только о себе! О, что с нею, не знаете ли вы, что с нею?» — умолял он Софью Матвеевну.
Потом он клялся, что «не изменит», что он к ней воротится (то есть к Варваре Петровне). «Мы будем подходить к ее крыльцу (то есть всё с Софьей Матвеевной) каждый день, когда она садится в карету для утренней прогулки, и будем тихонько смотреть… О, я хочу, чтоб она ударила меня в другую щеку; с наслаждением хочу! Я подставлю ей мою другую щеку comme dans votre livre![279] Я теперь, теперь только понял, что значит подставить другую… „ланиту“. Я никогда не понимал прежде!».
Для Софьи Матвеевны наступили два страшные дня ее жизни; она и теперь припоминает о них с содроганием. Степан Трофимович заболел так серьезно, что он не мог отправиться на пароходе, который на этот раз явился аккуратно в два часа пополудни; она же не в силах была оставить его одного и тоже не поехала в Спасов. По ее рассказу, он очень даже обрадовался, что пароход ушел.
— Ну и славно, ну и прекрасно, — пробормотал он с постели, — а то я всё боялся, что мы уедем. Здесь так хорошо, здесь лучше всего… Вы меня не оставите? О, вы меня не оставили!
«Здесь», однако, было вовсе не так хорошо. Он ничего не хотел знать из ее затруднений; голова его была полна одними фантазиями. Свою же болезнь он считал чем-то мимолетным, пустяками, и не думал о ней вовсе, а думал только о том, как они пойдут и станут продавать «эти книжки». Он просил ее почитать ему Евангелие.
— Я давно уже не читал… в оригинале. А то кто-нибудь спросит, и я ошибусь; надо тоже все-таки приготовиться.
Она уселась подле него и развернула книжку.
— Вы прекрасно читаете, — прервал он ее с первой же строки. — Я вижу, вижу, что я не ошибся! — прибавил он неясно, но восторженно. И вообще он был в беспрерывном восторженном состоянии. Она прочитала нагорную проповедь.*
— Assez, assez, mon enfant,[280] довольно… Неужто вы думаете, что этого не довольно!
И он в бессилии закрыл глаза. Он был очень слаб, но еще не терял сознания. Софья Матвеевна поднялась было, полагая, что он хочет заснуть. Но он остановил:
— Друг мой, я всю жизнь мою лгал. Даже когда говорил правду. Я никогда не говорил для истины, а только для себя, я это и прежде знал, но теперь только вижу… О, где те друзья, которых я оскорблял моею дружбой всю мою жизнь? И все, и все! Savez-vous,[281] я, может, лгу и теперь; наверно лгу и теперь. Главное в том, что я сам себе верю, когда лгу. Всего труднее в жизни жить и не лгать… и… и собственной лжи не верить, да, да, вот это именно! Но подождите, это всё потом… Мы вместе, вместе! — прибавил он с энтузиазмом.
— Степан Трофимович, — робко попросила Софья Матвеевна, — не послать ли в «губернию» за доктором?
Он ужасно был поражен.
— Зачем? Est-ce que je suis si malade? Mais rien de sérieux.[282] И зачем нам посторонние люди? Еще узнают и — что тогда будет? Нет, нет, никто из посторонних, мы вместе, вместе!
— Знаете, — сказал он помолчав, — прочтите мне еще что-нибудь, так, на выбор, что-нибудь, куда глаз попадет.
Софья Матвеевна развернула и стала читать.
— Где развернется, где развернется нечаянно, — по вторил он.
— «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши…»*
— Это что? что? Это откуда?
— Это из Апокалипсиса.
— О, je m'en souviens, oui, l'Apocalypse. Lisez, lisez,[283] я загадал по книге о нашей будущности, я хочу знать, что вышло; читайте с Ангела, с Ангела…
— «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания божия. Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если б ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг».
— Это… и это в вашей книге! — воскликнул он, сверкая глазами и приподнимаясь с изголовья. — Я никогда не знал этого великого места! Слышите: скорее холодного, холодного, чем теплого, чем только теплого. О, я докажу. Только не оставляйте, не оставляйте меня одного! Мы докажем, мы докажем!
— Да не оставлю же я вас, Степан Трофимович, никогда не оставлю-с! — схватила она его руки и сжала в своих, поднося их к сердцу, со слезами на глазах смотря на него. («Жалко уж очень мне их стало в ту минуту», — передавала она). Губы его задергались как бы судорожно.
— Однако, Степан Трофимович, как же нам все-таки быть-с? Не дать ли знать кому из ваших знакомых али, может, родных?
Но тут уж он до того испугался, что она и не рада была, что еще раз помянула. Трепеща и дрожа умолял он не звать никого, не предпринимать ничего; брал с нее слово, уговаривал: «Никого, никого! Мы одни, только одни, nous partirons ensemble».[284]
Очень худо было и то, что хозяева тоже стали беспокоиться, ворчали и приставали к Софье Матвеевне. Она им уплатила и постаралась показать деньги; это смягчило на время; но хозяин потребовал «вид»* Степана Трофимовича. Больной с высокомерною улыбкой указал на свой маленький сак; в нем Софья Матвеевна отыскала его указ об отставке или что-то в этом роде, по которому он всю жизнь проживал. Хозяин не унялся и говорил, что «надо их куда ни на есть принять, потому у нас не больница, а помрет, так еще, пожалуй, что выйдет, натерпимся». Софья Матвеевна заговорила было и с ним о докторе, но выходило, что если послать в «губернию», то до того могло дорого обойтись, что, уж конечно, надо было оставить о докторе всякую мысль. Она с тоской воротилась к своему больному. Степан Трофимович слабел все более и более.
— Теперь прочитайте мне еще одно место… о свиньях, — произнес он вдруг.
— Чего-с? — испугалась ужасно Софья Матвеевна.
— О свиньях… это тут же… ces cochons…[285] я помню, бесы вошли в свиней и все потонули. Прочтите мне это непременно; я вам после скажу, для чего. Я припомнить хочу буквально. Мне надо буквально.
Софья Матвеевна знала Евангелие хорошо и тотчас отыскала от Луки то самое место, которое я и выставил эпиграфом к моей хронике. Приведу его здесь опять.
«Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся».
— Друг мой, — произнес Степан Трофимович в большом волнении, — savez-vous, это чудесное и… необыкновенное место было мне всю жизнь камнем преткновения… dans ce livre…[286] так что я это место еще с детства упомнил. Теперь же мне пришла одна мысль; une comparaison.[287] Мне ужасно много приходит теперь мыслей: видите, это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, — это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века! Oui, cette Russie, que j'aimais toujours.[288] Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности… и сами будут проситься войти в свиней. Да и вошли уже, может быть! Это мы, мы и те, и Петруша et les autres avec lui,[289] и я, может быть, первый, во главе, и мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится и «сядет у ног Иисусовых»… и будут все глядеть с изумлением… Милая, vous comprendrez après,[290] а теперь это очень волнует меня… Vous comprendrez après… Nous comprendrons ensemble.[291]
С ним сделался бред, и он наконец потерял сознание. Так продолжалось и весь следующий день. Софья Матвеевна сидела подле него и плакала, не спала почти совсем уже третью ночь и избегала показываться на глаза хозяевам, которые, она предчувствовала, что-то уже начинали предпринимать. Избавление последовало лишь на третий день. Наутро Степан Трофимович очнулся, узнал ее и протянул ей руку. Она перекрестилась с надеждою. Ему хотелось посмотреть в окно «Tiens, un lac,[292] — проговорил он, — ах, боже мой, я еще и не видал его…» В эту минуту у подъезда избы прогремел чей-то экипаж и в доме поднялась чрезвычайная суматоха.