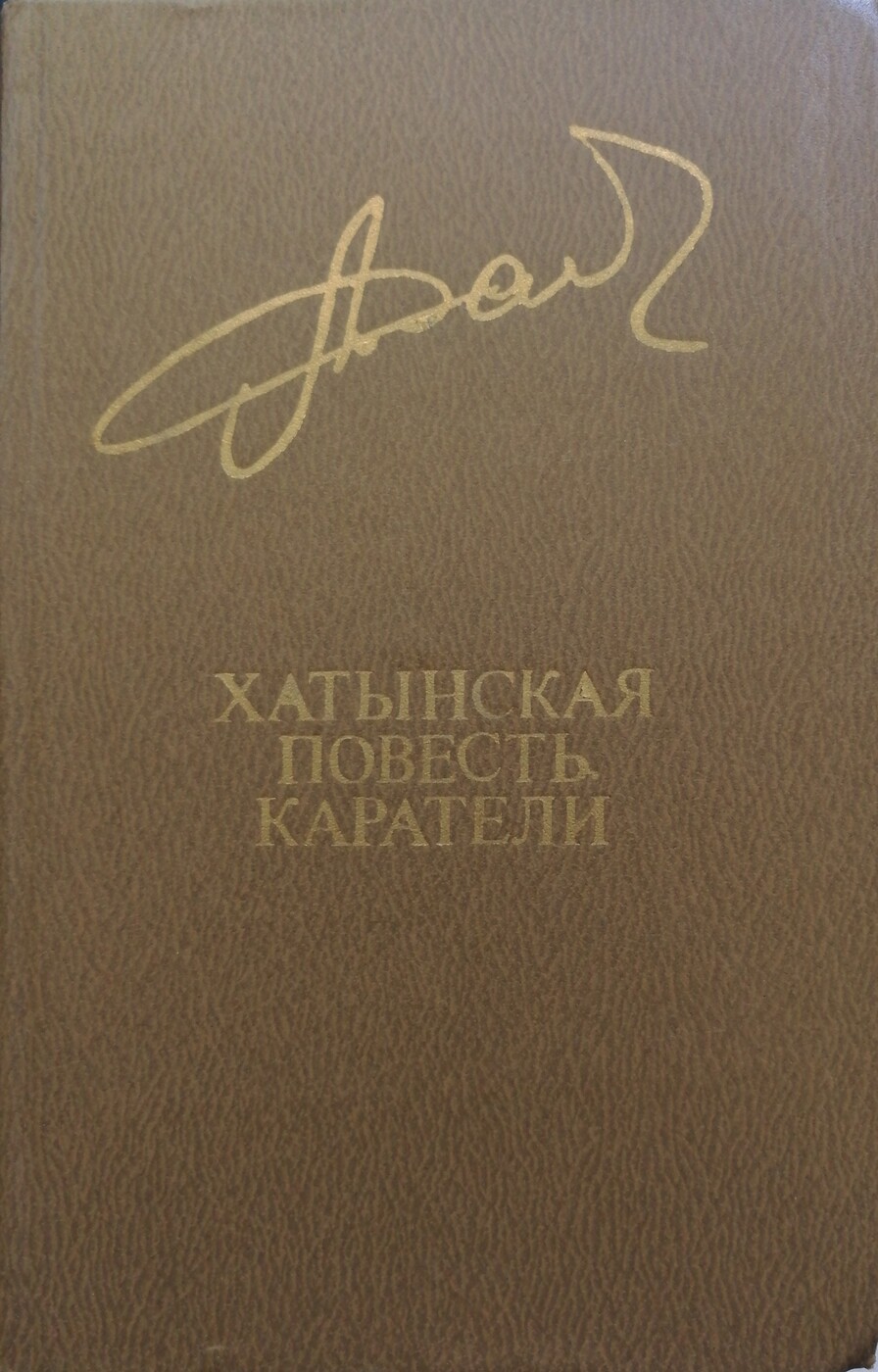пиши! Пиши, лишь когда оно кричит в тебе. А не потому, что ты умеешь писать». Однако и Достоевский тоже постоянно присутствует в этих высказываниях. Вместе с Толстым, наряду с ним. Как два ориентира, два полюса притяжения. Процитирую в подтверждение строки из статьи «Уроки Толстого и пути развития белорусской литературы»: «Наше время все больше ставит вопрос о сов-метенном воздействии Толстого — Достоевского на литературу вообще, а на «военную» — в особенности. «Параллельные» пути сверхгениев если не сошлись, то значительно сблизились во времени. И главное, что их сближает в нашем восприятии, — сопряжение человека и человечества в единой тревожной, огромной мысли: как человеку жить с людьми, по каким законам добра и зла, что обещает гибель, а что — спасение? Слишком многое обострилось (и многое прояснилось) из того, что и Толстой, и Достоевский — каждый своим путем — обнаружили в мире и в человеке. Обнаружилось и сошлось в нашем времени столько и такое, что нам мало уже одного Толстого или одного Достоевского».
Как бывало и прежде, литературоведческие труды Адамовича готовили почву для его же прозы. Толстовское «пиши, лишь когда оно кричит в тебе» все более сливалось с памятью о войне, о перенесенном белорусской деревней. Толстовская смелость в познании правды служила тут и напутствием, и нравственной опорой. Но не меньшим, если не большим побудительным императивом были мемуары партизан, потрясающие исповеди очевидцев карательных расправ, материалы судов над гитлеровскими приспешниками, извлеченные из архивов документы.
Писатель как бы снова шагал дорогами войны. Теми же знакомыми с юности лесными и проселочными дорогами, но с другим багажом представлений, с другой тяжестью чувств. «Дважды пережитое» — эта емкая формула неспроста возникла в одной из его статей. Пережитое во второй раз отзывалось резче, болезненнее, чем в первый. Ибо прозаик смотрел на события уже не только глазами подростка, как в «Партизанах», но и «глазами матерей, убиваемых, сжигаемых вместе с детьми».
Двойное восприятие минувшего воплощено в самой композиционной структуре «Хатынской повести» (1971), во взаимопроекции нынешнего и тогдашнего.
Сегодняшний план произведения внешне почти репортажей: встреча бывших соратников, поездка в Хатынь, узнавания и расспросы. А под этой верхней оболочкой — основное ядро, наполненное раскаленной магмой народного горя.
Связной между обоими берегами времени — Флера Гайшун, точнее Флориан Петрович Гайшун, маститый ученый, преподаватель института, специалист по психологии. Он-то и ведет повествование, его глазами мы следим за происходившим и происходящим.
Его глазами… Но Флориан Петрович вот уже несколько лет как ослеп, потеряв зрение после фронтовых контузий. Отсюда удивительное, странное состояние, которое испытывает герой на встрече с однополчанами. Они для него не изменились, не постарели: «Зрячие должны напрягаться, чтобы в сегодняшнем увидеть того, кто больше четверти века назад был Косачем, Зуенком, Столетовым, Костей-начштаба. А мне и усилия не нужно никакого: только тех, прежних, я и вижу».
Война отпечаталась не только в зрительной памяти, но и в психологии Гайшуна. Хлеб как величайшая ценность, щепотка соли как счастье, как награда. Сидя в самолете, он инстинктивно регистрирует: «Вот так, вот какими видела землю, хаты, нас, людей, та «рама», видел он — кто-то обобщенно гнусный». Или это — чисто партизанское: благодарность лесу, неприязнь к незащищенному, открытому пространству.
Вероятно, на выдвижение в центр повести такого персрнажа подспудно влияло еще одно обстоятельство. Юный Флера — ровесник Толи Корзуна из дилогии «Партизаны». Оговорюсь сразу, ровесник, но не двойник. Ибо у каждого свой жребий, своя чаша горечи, своя психология. И все же возрастная близость дает о себе знать. Защитный механизм молодости поддерживает обоих, не позволяет угаснуть надежде, ожесточиться, закаменеть.
В «Хатынской повести» писатель возвращается на круги своя. Однако мотивы ранней книги здесь не просто продолжены, а переведены в другой регистр. Характерный пример. Поселок Глуша, где вырос А. Адамович, откуда он ушел в партизаны, был тоже приговорен гитлеровцами к уничтожению. Повторялось происходившее по всей Белоруссии. Эсэсовские цепи, облава на жителей под предлогом проверки документов, дорога на Голгофу, то бишь в крытый соломою сарай. И в этой обезумевшей толпе, в этой давке — мать писателя, Анна Митрофановна. К счастью, что-то не сработало в педантичном немецком плане, причем в самый последний момент. Какая-то непостижимая, редкостная осечка. Но то, что сорвалось в Глуше, было доведено до конца в сотнях других селений. Дилогия «Партизаны» полнится отголосками таких фактов, зловещими рассказами о них. В «Хатынской повести» — взгляд в упор, не отводя лица. Вся правда о том, как ликвидировали деревню Переходы, как ловили, сгоняли людей, заталкивали в амбар, как «мокро зачернели пазы меж бревен и доски ворот, резко запахло бензином». Досказывание? Не только и не столько. Главное тут — мужественная наводка на резкость, укрупнение масштаба, иная степень философского, духовного истолкования. Собственная память автора помножена на память других людей. К рассказу Флеры Гайшуна присовокуплены рассказы Иосифа Каминского, Марии Кот, Надежды Неглюй и других реальных свидетелей обвинения.
Готовя к печати книгу «Разные дни войны», К. Симонов сопроводил дневниковые записи военных лет нынешними комментариями и дополнениями к ним, тщательными ссылками на то, что стало известно позже. Подобная же модель заложена и в «Хатынской повести».
Флориан Петрович Гайшун наблюдает восемнадцатилетнего Флеру как бы со стороны, «точно не во мне он, а там остался». Там, за перевалом десятилетий, в отдалившейся от нас эпохе. И голос его — оттуда, из тех дней, из той действительности. Юный Флера повествует о непосредственно пережитом. О том, как спасал других и как спасался сам, как блуждал по болотам и прятался в засаде, как приобретал товарищей и хоронил их. А Флориан Петрович, тот вглядывается в себя прежнего уже с дистанции времени. Вглядывается придирчиво, без поблажек — тут ловчил, тут обманывал себя, тут судил слишком наивно, тут совершил невозможное. Ему, профессиональному психологу, есть над чем задуматься. Еще бы, поведение человека в экстремальных условиях, мобилизация внутренних ресурсов личности, сопротивление за счет даже не физических, а моральных сил, каждодневное преодоление боли, усталости, голода, страха. Но сверхзадача диалога с самим собой все > же иная, более широкая, нежели самый строгий, самый честный психологический анализ.
То, что Флера воспринимал разрозненно, раздробленно, для Флориана Петровича состыковано, сомкнуто, стянуто в тугую сеть.
Идея сцепления, стяжения, взаимозависимости — одна из центральных в концепции произведения.
Вспоминая момент соприкосновения с немецким дозором, герой книги думает: «Это всегда особенное чувство: из засады смотреть, как появляются перед тобой враги. Вы никогда один одного не видели, не знали, что другой есть на земле, но где-то что-то сложилось так,