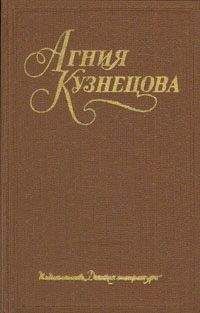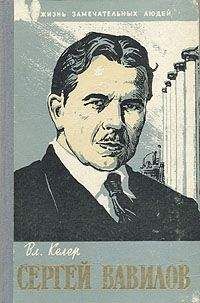— Три давайте, сейчас начальник штаба придёт. — Он показал рукой, что у него в голове всё смешалось от бомбёжки, и спросил: — Сколько часов мы не виделись, часа четыре?
— Поменьше, в пятом часу кончил заседать Военный Совет, а начальник штаба ещё минут сорок у меня сидел, латали тришкин кафтан, — проговорил командующий.
Член Военного Совета сердито посмотрел на раскачивающуюся электрическую лампочку и, подняв ладонь, остановил её.
— Бедность не порок, — сказал: он, — тем более, что скоро будем богаты, очень, очень будем богаты. — Он улыбнулся. — Вчера пробрался в штаб пехотного полка к командиру майору Капронову. Сидит командир под землёй в магистральной подземной трубе со своими людьми, ест арбузы и говорит: «Поскольку они мочегонные, я сижу в водопроводной трубе, далеко ходить не нужно». А кругом ад кромешный. Хорошо, что смеётся. Счастливое свойство. Пришёл с заседания от тебя ночью — меня ждал Кузнецов, комиссар дивизии НКВД. Пять их полков растянулись от заводов до центра. Двести шестьдесят девятый полк отходит, беспрерывные атаки — танки и пехота. Потери огромные, в двести семьдесят первом полку сто десять человек осталось, а из них сорок человек в партию подали! О чём это говорит? В двести семьдесят третьем сто тридцать пять человек осталось. А какие у них полки были полнокровные! Вот в их двести восемьдесят втором потери поменьше; Кузнецов говорит, — тысяча сто штыков. Шестьдесят два человека в полку в партию подали! Нет, нас с таким народом никто не побьёт!
Командующий ударил кулаком по столу, закричал не для того, чтобы пересилить внешний шум, а от внутренней ярости и боли:
— Я от командиров и солдат требую всего невозможного, сверхчеловеческого! А дать что могу им? Роту охраны штаба в подкрепление, штабную батарею, лёгкий танк, что ли? А какие люди дерутся, какие люди! — Он снова ударил кулаком, да так, что привычная к бомбёжке посуда подскочила, и налился тёмной краской. Если не подоспеют подкрепления, вооружу штаб гранатами и поведу! Чёрт с ним! Чем в мышеловке этой сидеть или в воде барахтаться. Хоть вспомнят тогда! Не оставил, скажут, без подкрепления вверенные войска.
Он исподлобья, нахмурив брови, поглядел, положив руки: на стол. Молчание длилось долго, потом по его лицу от углов глаз пошла лукавая улыбка.
Улыбка, медленно, с трудом преодолевая угрюмую складку губ, осветила всё его лицо, и оно, потеряв своё грозное выражение, посветлело, засмеялось.
Он погладил дивизионного комиссара по плечу:
— Вы тут похудеете, ты, то есть (они накануне, торжественно расцеловавшись, перешли на «ты» и ещё сбивались, не привыкли): — Похудеешь, похудеешь!
— Я знаю, — сказал: Гуров и улыбнулся командующему, — похудею не только от немцев.
— Вот-вот, и от меня, от моего тихого характера. Да это ничего, похудеешь, для сердца полезно. — Он зычно позвал в телефон: — Второго! — и тотчас проговорил: — С утренней бомбёжкой вас, что ж вы опаздываете? Или отдыхаете? Давайте, давайте, а то чай стынет.
Дивизионный комиссар прижал ладонью ложечку, звеневшую на блюдце, и увещевающе сказал: ей:
— Да перестанешь ты дрожать, — и, подняв руку, снова остановил начавшую вновь качаться лампочку.
В это время вошёл начальник штаба Крылов. Всё в нём дышало неторопливым, необычайным в этой обстановке покоем. Большая голова с приглаженными, смоченными водой волосами, и чистый, без морщин лоб, и большое лицо с крупным носом, и усталые большие карие глаза, и полные свежевыбритые щёки с несколько ноздреватой кожей, пахнущие одеколоном, и белые руки с овальными ногтями, и белая полоска над воротничком френча, и мягкие движения, и внимательная улыбка, с которой он взглянул на накрытый стол, — всё принадлежало человеку непоколебимо, принципиально спокойному.
Негромкий голос его был почему-то слышен среди гула и грохота, и ему не приходилось кричать, как другим. То ли он умел произносить слова именно в те мгновения, когда несколько смолкал гул бомбёжки, то ли научился выбирать какой-то особый тембр голоса, незаглушаемый громом войны, то ли спокойствие его было настолько сильно, что оно не смешивалось с раскатами штурма и всплывало, как масло на поверхности гремящих вод.
Вся война прошла для него в грохоте осады, и он привык к тему молотобоец, привыкший к грому молота.
Осенью 1941 года он был начальником штаба армии, оборонявшей Одессу, затем — начальником штаба армии, оборонявшей двести пятьдесят дней Севастополь, сейчас он стал начальником штаба армии, оборонявшей Сталинград.
Член Военного Совета, улыбаясь, — видимо, ему доставляло большое удовольствие смотреть на спокойное лицо начальника штаба, — спросил:
— Что в южной части:
— Артиллерия выручает из-за Волги, намолотила и наворотила немцев. Толково её там расставили. Весь день «эрэсы» и тяжёлые работали по южной окраине. Мои сотрудники подсчитали, что немцы за вчерашний день произвели тысячу сто самолёто-вылетов.
Чуйков недовольно пожал плечами:
— Мне-то что, от такого подсчёта ни холодно, ни жарко. Начальник штаба юмористически сказал:
— Что дурни робят, воду меряют. Наши КВ отбили танковую атаку. Потери за вчерашний день меньше позавчерашних, но я думаю оттого, что машин меньше осталось. Картина ясная. Но оттого, что она ясная, нам не легче. Выжигают с воздуха Ворошиловский район. Беспрерывно атакуют с воздуха и с земли с прежних направлений: Гумрак, Городище, Бекетовка. По солдатским книжкам убитых видно, что со вчерашнего дня появились две новые дивизии. А на юге держим! Ночью замечено сосредоточение в районе Тракторного — танки, пехота. Видимо, противник считает задачу по городу практически выполненной и перегруппировывает силы. Много самолёто-вылетов на заводы, очевидно, подготовку начали.
— А мне-то, мне-то, — проговорил командарм, — когда противник перегруппировывается для решающей атаки, мне-то где взять людей для перегруппировки, надавать ему по зубам! Спросят-то с меня! Я сам с себя спрошу! Вот потеряли вокзал, элеватор, дом Госбанка, Дом специалиста...
На некоторое время они замолчали — взрывы, стремительно нарастая, подкатывали к блиндажу Тарелка, стоящая на краю стола, упала и, казалось, беззвучно, как на немом киноэкране, разбилась.
Начальник штаба отложил вилку, полуоткрыл рот, сощурился, вибрация земли и воздуха стала нестерпимой, раскалённая игла входила в мозг. Лица сидевших стали неподвижны. Вдруг блиндаж весь затрясся, заскрипел, всё заходило, словно в гармошке, лихо растянутой и снова сжатой грубым рывком чьих-то пьяных рук.
Все трое за столом распрямились, подняли головы: вот она и смерть!
И вдруг наступила оглушительная, дурящая тишина. Дивизионный комиссар вынул платок и помахал им около лица. Начальник штаба приложил большие белые ладони к ушам:
— А я уж вилку поскорей отложил, — сказал: Крылов, — подумал ещё откопают меня с вилкой в руке, смеяться будут. Командарм искоса посмотрел на него и спросил.
— Всё ж таки сознайтесь, в Севастополе ведь такого не было, там ведь не так бомбили?
— Трудно сказать, но пожалуй...
— А-га-а, пожалуй, — сказал: командующий, и в этом «ага» была радость, горькая гордость, торжество: он, должно быть, ревновал начальника штаба к Севастополю, ему, видимо, хотелось, чтобы ничто на войне не могло сравниться с той тяжестью, что он принял на свои плечи. Но, кажется, так и было.
— Нет, в Севастополе не так было. Куда Петрову до нас, — отдуваясь и лукаво улыбаясь, сказал: Гуров, и командарм, увидя, что его чувство разгадано, рассмеялся.
— Что ж, как будто притихло, — сказал: Чуйков, — давайте выпьем за Севастополь.
И едва он произнёс эти слова, вновь сверху послышался воющий звук, и страшный удар потряс блиндаж, затрещало крепление, сквозь лопнувшие доски посыпались на стол пыль и труха.
В пыли на мгновение потонули все предметы и лица людей, и лишь слышались взрывы то справа, то слева, сливающиеся в один потрясающий барабанный звук
Когда пыль стала оседать, командующий армией, кашляя и чихая, посмотрел на стол, на чудом уцелевшую и продолжавшую гореть лампу, на опрокинутый, упавший на пол телефон, на ставшую вдруг пепельно-серой подушку, на побледневшие, напряжённые лица своих товарищей и вдруг с какой-то необычайной простотой улыбнулся и сказал:
— Ну и попали мы с вами в Сталинград, за какие грехи? И столько детского удивления было в его улыбке, и такой человеческой, солдатской простотой прозвучали его слова, что все, слышавшие его, невольно усмехнулись.
Адъютант, растирая ладонью ушибленную голову, доложил:
— Товарищ командующий, один сотрудник штаба убит, двое ранено, разрушен блиндаж коменданта штаба.
А командарм, вновь суровый и напряжённый, посмотрел на растерянное лицо адъютанта и резко сказал: ему:
— Связь, связь мне немедленно восстановить!