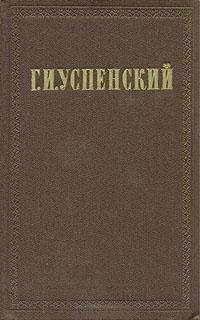И вдруг — смерть! Нет главы, нет смысла ни в обеде, ни в ужине, ни за самоваром; невозможно объяснить, зачем собралась такая куча народу и почему для этой кучи ныне нет никаких денег? Что за безобразие такое? Разве так можно? Разве это справедливо?
Именно в таком невозможно беспомощном состоянии было семейство, в котором я нанял квартиру. Ни бабушка, ни вдова решительно не знали, что им теперь делать? Очевидно, покойник много работал для них и сумел добиться, что они "не знали нужды", но очевидно было, что и при покойнике и после него его семейные ровно ничего не понимали ни в жизни, ни в деньгах, ни в добыче их. Это обнаружилось при первом же посещении.
— Сколько же вы желаете за комнату? — спросил я вдову, длинную женщину с белыми глазами, из которых постоянно лились слезы.
— Пятьдесят! — пролепетала она, рыдая, и когда мой приятель, как говорится, "ахнул" от удивления и едва удержался, чтобы не сказать: "опомнитесь!", так вдова еще сильнее залилась слезами.
— Боже мой! — воскликнула она. — Но ведь нам нуж-жно?!
— Надо кормиться-то или нет? как по-твоему? — басом сказала бабушка, глядя на нас как на разбойников.
— Кормиться надо, только пятьдесят рублей — это невозможно!
— Невозможно! — басом произнесла бабушка. — А возможно не евши сидеть? Ты должен об этом подумать!
Вдова всхлипывала; дочь, девушка лет шестнадцати, полная, высокая (она пробовала держать экзамен в гимназию, но сконфузилась своего вполне уже женского роста и ушла) и, повидимому, добрая девушка, зарделась от "стыда" за бабушку, но, как мне показалось, что и она также не совсем хорошо понимала: почему нельзя платить пятидесяти рублей, когда они нужны?
После долгих переговоров кое-как уговорились. За тридцать пять рублей в месяц квартира была нанята со столом.
— Ну, бог с тобой! — заключила торг бабушка. — Живи!
— Что делать! — глубоко вздохнув, произнесла вдова, вытирая глаза, — делать нечего! Когда нельзя больше, что же я могу? Но только вы уж, пожалуйста, дайте мне за пять месяцев!.. Уж…
— Помилуйте! Ведь это больше полутораста рублей! Мне таких денег взять негде!
— Нет, бога ради!
— Ей-богу, я не могу. Спросите у него (я сослался на товарища). Жалованье выдают помесячно.
— Ну, я вас прошу.
— Извините!
Я было хотел удалиться…
— Пожалуйста! — порываясь ко мне, продолжала хозяйка. — Если можно! Ведь вы служите? Где вы служите?
— В банке.
— Во-от! — загремела бабушка, как бы обличая меня.
— Вот видите! — обрадовалась вдова. — Неужели же вы не можете взять из банка? Неужели же они не поверят своему служащему? А мне, я вам откровенно скажу, ужасно нужно!
— Попроси, попроси хорошенько! — советовала бабушка мне. — Ан, глядишь, и дадут!
Надо было много терпения, чтобы доказать нуждавшемуся в средствах семейству всю невозможность этой операции. Да и то в конце концов никто из них не поверил нашим доводам, даже девушка, и та сомневалась в том, что мы говорим правду. А бабушка — только рукой махнула и уж не басом, а топотом произнесла:
— Ну, бог с вами!
Затем вдова повела нас в свою половину, прося посмотреть продажный стол и поискать для него покупателя. Стол был круглый, окрашенный под орех, но цена ему была семьдесят пять рублей, потому именно, что вдове нужны были такие деньги. Наконец, гимназистик первого класса (одевал и платил за него какой-то купец, обязанный чем-то покойному ходатаю), сын вдовы, принес откуда-то из чулана какую-то "вещь", о которой никто не имел определенного понятия, не зная, зачем она, и все поэтому думали, что за нее можно взять "хорошие" деньги. Вещь оказалась старым большим вентилятором, у которого к тому же было выломано колесо. Вдова просила нас, не найдем ли мы покупщиков, причем она согласилась взять, "что дадут", не торгуясь, так рублей пятнадцать, но когда мы и тут отказали ей в своем содействии, то она вновь заплакала и, всхлипывая, едва могла проговорить:
— Чем же я буду жить-то, скажите вы мне, пожалуйста?
3
В течение нескольких дней по переезде на квартиру (я переехал в тот же вечер) я мог до некоторой степени обстоятельно изучить нравы и будничный обиход жизни моих хозяев. Положим, что в этом изучении ни для меня, ни для кого другого не было и нет особой надобности, но что же мне, нанятому одинокому человеку, и изучать-то, кроме того случайного общества, в которое бросает случайно полученный заработок? Хорошо, попадется книга, читаешь от доски до доски. А нет книги, лежишь, смотришь в стену и слушаешь, что за стеной. Все это, конечно, как отдых, после целого дня корпенья над бумагами и счетами. Вот таким образом и тут изучал я моих хозяев. Особливо мне бросилась в глаза одна черта, господствовавшая во всех их поступках и мыслях, именно лень. Лень одеваться, лень идти, лень двинуться с места, и в то же время упрек друг к другу в этой лени.
— Да двинься ты хоть на минуточку! — сидя на лежанке в другой комнате, упрекает бабушка барышню. — Видишь, Ванюшка плачет! Экая неповоротливая!
— Что мне двигаться с места на место? Там Ваня.
— А! Как же! — отвечает Ваня, — так я и буду бегать из угла в угол!
— О господи, — вопиет вдова многочисленного семейства, приютившаяся на диване. — Где это Авдотья?
— Авдотья! Авдотья! — звонко вторит барышня. — Авдотья! — басом вопиет бабушка.
— Авдотья, тебя зовут! — телеграфирует откуда-то гимназист.
И целый хор людей, которым "лень подняться", начинает вопиять что-то к Авдотье.
— Что ты, барыня экая, оглохла? — басит бабушка.
— Звали, звали, звали!.. — колокольчиком звенит барышня, — а ребенок кричит целый час!
— Хоть бы одну-то, одну-то минуту дали спокойно отдохнуть! — слышится жалобный голос вдовы.
Иной раз они так "присидятся" к своим местам, кто к окну, кто к дивану, кто к печке, что сидят неподвижно по целым часам, по временам только вздыхая или зевая и почесывая кто плечо, кто спину, кто глаз. Сидят и молчат. "Не зажигай огня!" — слышу из-за стены. И тьма даже приятна и пригодна им. Что они, думают ли в такие минуты о чем-нибудь или просто отдыхают после главенства "покойника", не знаю, но всякий раз, когда мне приходилось вступать с ними в какие-нибудь разговоры, меня поражала в них еще и масса лени умственной. Необходимо сказать, что если в этаком истуканном состоянии заставал их гость, будь то и я (спросить — который час?) или кто-нибудь из старых знакомых, — ими моментально (в буквальном смысле!) овладевала какая-то необычайная суматоха, или, вернее, какая-то необыкновенная, нервная толкотня: и какой-то испуг, точно гость — удар молнии, и радость, точно гость принес двеститысячный выигрыш, — и вдруг все забормочут, засуются из угла в угол, застыдятся, перепугаются, словом, сразу, мгновенно произведут такую нелепицу, что решительно не понимаешь, что такое тут происходит? Что такое толкуют они, о какой-то и чьей-то бороде? Потом о масленице, о дяденьке Родионе Ивановиче… Только очнувшись у себя в комнате, начинаешь догадываться, что за причина такого непостижимого бормотанья? Изволите видеть: бабушке моя борода напоминала бороду Родиона Ивановича, барышня поспешила объяснить, как она на масленице гостила у Родиона Ивановича в Москве, а вдова тоже считала нужным дополнить, что Родион Иванович был третий брат ее мужа, от второго брака Ивана Родионыча, который по первому браку и т. д. Вот каким путем образовывался тот проливень слов, под которым я обыкновенно стаивал всякий раз, когда мне приходилось заглянуть к хозяевам. Стоишь и ждешь, скоро ли кончится.
Но, с другой стороны, хотя они и могли трещать и чирикать по-птичьему, и даже с некоторым успехом, но "думать" решительно уже не были в состоянии. Всего менее была способна к какой бы то ни было мало-мальски логической мысли — бабушка. Уж, кажется, как бы такому старому человеку, у которого есть внучата, которая "прожила век", вынянчила, вывела в люди и пристроила детей, как бы такому человеку не привыкнуть к крепкой думе? — а между тем она не могла связать я двух мыслей. Об чем бы ни начинал я с ней речь, всегда ее ответы были совсем ни к чему не подходящие. Скажешь, например: "Дорого жить стало!" А бабушка (и всегда с сердцем!) ответит: "Дорого! А… не дорого, вон… тоже… один… какой-то прохвост, прости господи, с железной дороги, на трех женах женился, да и развез их по разным городам! Небось не дорого?.. да!" Скажешь ей на это: "Да я не о том говорю"… — "Ну да! Не о том! А о чем же? Нонче все больно разговаривать-то хитры стали (и всё с сердцем, даже всем тучным телом двигает!). Разговаривают, разговаривают — а…." И остановится, помолчит, да вдруг и кончит: "А вот воров да разбойников — полон город развели!" Словом, ни единого мало-мальски определенного мнения я никогда не мог услышать от нее ни по одному вопросу.
Только одно затвердила она, повидимому, весьма основательно: в старину деньги "сами шли в дом, а теперь всё из дому". Неоднократно пытался я разузнать от нее, почему именно в старину была такая благодать, а теперь нет? и, конечно, ничего не узнал. "Отчего?" — спросил я. "Да вот от того!" — "Отчего же?" — "От всего". — "Нынче, — говорил я, — до Москвы доехать стоит два рубля по железной дороге, а в старину стоило рублей пятьдесят: в старину чиновник получал три рубля в месяц, а теперь нет писаря, который бы брал меньше тридцати. Теперь какой-нибудь кондуктор на железной дороге получает сорок рублей, а в старину сорок рублей получал генерал". Словом, подобрав ей множество опровержений, я всякий раз получал в ответ какую-нибудь необычайную нелепицу. "Да, да! — забормочет она. — Как же, генерал! так и есть! Да, да, вон на трех женах женился… так сейчас и генерал за это?"