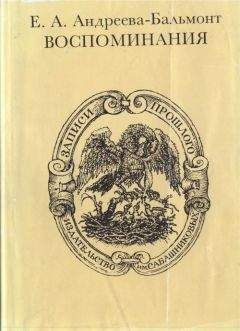Я спросил маленькую девочку, что ей нравится в музыке. Она сказала: "Музыка - живая. Я люблю все, что живое. Бабочек, цветы и птиц. Ветер тоже живой. Но музыка - самая живая".
Я спросил юношу о музыке. Он сказал мне: "Музыка сразу идет к душе и ей завладевает, заставляет ее петь. Песня есть кровь, которая ищет дороги от сердца к Солнцу. Песня - цветок, которому радостно возрасти на родной земле и узнать душистую жизнь".
Я спросил юную девушку, и она мне сказала о музыке: "Музыка мне необходима. Она открывает нам дверь в будущее или прошедшее. Но Вечность это кольцо, и будущее в нем совпадает с прошлым. Мы все слышали когда-то эти звуки, которые теперь нас успокаивают, радуют или волнуют. При звуках музыки человек начинает вспоминать ту музыку, которая была прежде в нас и вне нас. Он не может жить без музыки, потому что она связь с той жизнью, с тем Миром. Но когда мы уже почти вспомнили, музыка обрывается. Несмотря на то, что она не может переступить заветный порог, мы всегда слушаем музыку с надеждой вспомнить более ясно, где мы слышали эти звуки".
Музыка самая живая из живого, и она приводит нас к мысли о том божеском начале, которое есть в каждом человеческом сердце, и к мысли о той красивой правде жизни, которую мы властны создать, когда мы свободны, когда мы любим друг друга в единении и понимаем, что все мы равны перед высоким Солнцем, как все цветы и все травинки равно имеют свою долю от солнечного света и свежих капель весеннего дождя.
Музыка и песня всегда живет в душе нашей. Но в нас есть срыв.
О том, как возникает в человеческом сердце чудо музыки и как срывается наше сердце, не дослушав до конца свою собственную песню, говорит южнорусское предание - сказ о Наймите-батраке.
Чернобыль
Шел наймит в степи широкой,
Видит чудо: стая змей
Собралась, свилась, как лента, как дракон зеленоокий,
В круг сложилась океанских переливчатых огней,
В средоточье на свирели колдовал им чародей.
И наймит, поверя чуду, что свершилося воочью,
Подошел к свирели звонкой, змеевому средоточью
К чаровавшему, в безбрежном, степь и воздух колдуну.
Змеи искрились, свивались,
Звуки флейты раздавались,
Цепи дня позабывались,
Сон слагался, утончая длинно-светлую струну.
И наймит, хотя был темным
И несведущим в вещах,
Увидал себя в огромном
Море, Море всеедином, слившем день и ночь в волнах.
И наймиту чудно стало.
Умножались чудеса.
Степь сияньем изумрудным говорила, гул рождала.
И от травки к каждой травке возникали голоса.
И одна из трав шептала, как быть вольным от болести,
И другая говорила, как всегда быть молодым,
Как любить и быть любимым, как избегнуть лютой мести,
И еще, еще и много, возникали тайновести,
И всходил как будто к небу изумрудно-светлый дым.
Было радостно-легко.
Океанское раздолье было счастьем повито,
И певучий звук свирели разносился далеко,
Так бы вечно продолжалось, счастье видится воочью
Подходящих в звуках песни к змеевому средоточью,
Да на грех наймит склонился, вырвал стебель чернобыль,
Приложил к губам тот стебель, и внезапно все сокрылось,
И наймит лишь степь увидел
лишь в степи пред ним крутилась
И кружася уносилась та же, та же, та же пыль.
Чернобыль, чернобыльник, полынь, горькая трава, которая так зловеще шуршит осенью и зимой своими сухими жесткими листьями,- это колдовская трава раздора, это рознь в сердцах, где могла быть музыка радости, песнь согласия. Чернобыль - это все, что есть в нашем сердце мелкого, ничтожно-маленького, темного, злого. Чернобыль - это враг Пасхального утра, в котором все братски равны, враг вселенского утра свободы.
И сильна эта горькая трава, грозящая обратить чудо воли в пыль. Но Пасхальное утро воскресенья сильнее.
Это утро Свободы, полное внутренней стройной музыки, это алая заря, несущая всем людям страны нашей освобождение, всем народам Земного Шара благовестие. Пасхальное утро вселенской правды создал бывший в рабстве неживым, не три дня, а три века бывший во гробе и ныне воскресший, русский народ.
Да укрепим же мы все чудо его восстанья из мертвых. Каждый из нас лишь малая капля. Но тысячи капель и светлые их миллионы, слившись в один могучий поток, сорвут всякую плотину, взломают преграду тысячеверстной полосы мертвого льда. Каждый из нас лишь малый звук. Но все вместе мы можем пропеть такую песню, которая даст счастье всем людям и дойдет до самого Солнца.
1917, 9 апреля, Москва
Или мы дети, или взрослые - или мы свободные, или рабы. Если мы свободные, мы хотим знать полную правду,- если мы взрослые, мы должны ее знать безотложно.
Тот, кто удерживает часть сведений о совершающемся, не предавая их полностью во всеобщее осведомление, в то время как все затронуты совершающимся, уворовывает часть правды, ибо явно, что одна из сторон, предоставляя лишь себе право давать сведения, этим самым не дает правде предстать во всей полноте.
То, что касается всей России, должна знать вся Россия, и немедленно. Иначе должно признать, что Россия продолжает пребывать в том рабстве, в котором она живет уже столетия. Изменился только лик порабощения, переменились исполнители того постыдного дела, которое называется надеванием узды на свободное слово, наложением ярма на волю народа.
Когда выходили в романовские дни изуродованные нумера газет с белыми полосами, я говорил, что каждое белое пятно в газете есть черное пятно на совести правительства.
Эта мысль не теряет убедительности по отношению к любому правительству, не только романовскому.
Воля народа - не благоусмотрение той или иной группы, того или иного класса. Я, свободный поэт, есть часть воли народа. И как свободный писатель я говорю: "Если свобода слова, свобода печати нарушается в стране хоть на один день, хоть на один час, в этой стране нет свободы слова и нет свободы печати".
Совесть России сейчас не свободна. На ней узда и ярмо.
Если же это не так, пусть все мы знаем полную правду о том, что касается нас всех. Если в этом будут промедления, это будет означать, что или мы на положении детей и рабов, или обвинитель боится, что обвиняемый скажет обвинителю еще более обвиняющее слово.
Или одно, или другое. Чистая совесть требует полной речи двух голосов там, где говорили два голоса.
1917. 1. IX
Когда мы говорим "народ", мы не разумеем под этим словом какой-нибудь отдельный класс, какой-нибудь отдельный разряд общества или народа, мы разумеем весь народ в его целом, как говоря "лес", мы не забываем сосну и ель, хотя бы лес был смешанный, а не хвойный и почти сплошь состоял из березы и осины.
Народная воля есть воля всего народа, а не крестьян только и не рабочих только. Народная жизнь есть сложное единство, и, говоря о народной воле с благим разумением, а не с желанием партийной подмены понятий, мы никак не можем не видеть, что нередко те разряды людей, которые стоят довольно далеко от так называемого народа, от так называемых рабочих, думают и поступают гораздо соответственнее с благом народным, чем сам этот народ. И отдельные люди, которые силой ума, таланта, гения, труда и самопожертвования являют действенное начало жизни, гораздо более воплощают в себе истинную народную волю, чем многотысячная народная толпа, забывшая о задачах великого народа и руководящаяся личным животным страхом и личными выгодами классовых интересов.
Когда мы говорим, что Ломоносов - отец литературы русского народа и Пушкин - краса и гордость русского народа, мы совсем забываем в эту минуту, что Ломоносов был крестьянином, а Пушкин - дворянином. Они делали общее народное дело с такой силой, с такой искренностью, с таким талантом и самозабвением, что оба одинаково дороги каждому русскому, кто их знает; и, пожалуй, Пушкин - кстати, чрезвычайно гордившийся и даже кичившийся своим дворянством,- много больше понял душу русского народа, чем Ломоносов, и стихи Пушкина, живая песнь русской народной, всенародной души, ближе и милей крестьянскому мальчику в школе, чем стихи Ломоносова или хотя бы Кольцова.
Или же это не так? Ведь это так, воистину, ведь это точная правда.
И Кольцов, и Никитин, и Суриков вышли из простого народа, но они не сделались великими поэтами русского народа, ни один из них не стал глашатаем русского народа, каким стал несравненный, единственный Некрасов, опять-таки дворянин, а не крестьянин и не мещанин,- другой пример того, что нет крестьян и дворян, нет преимуществ и ограничений там, где делается великое дело творчества, и кажущийся близким может быть далек, и кажущийся далеким может быть близок.