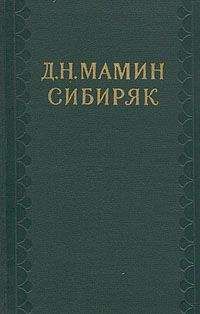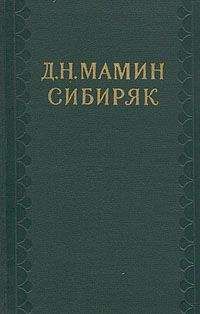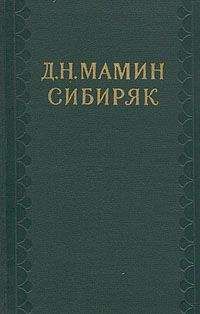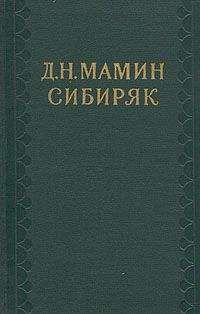Если бывают вообще загадочные натуры, то такой загадочной натурой был Иринарх: мучить других для него составляло утонченнейшее наслаждение, и ему нужны были детские слезы, мольбы и вопли, чтобы он мог спокойно дремать в своем кресле; что-то зловещее светилось в этих серых с поволокой глазах, когда они останавливались на вас своим долгим магнетизирующим взглядом, потрясавшим всю нервную систему. Иринарх действовал не столько на тело, сколько на душу, создавая целую пытку для нервов; некоторые падали в обморок от одного его взгляда. А между тем это был очень образованный человек, поступление которого в монахи окружено было самой глубокой таинственностью; кроме того, глубоко художественная натура Иринарха сказывалась во всем и даже в том высокохудожественном зле, которое он сеял кругом себя. Жить он умел, как никто другой, и пока монастырская братия сидела на кислой капусте и горошнице, Иринарх имел самую изысканнейшую кухню и попивал двадцатипятирублевый рейнвейн. Слава об Иринархе гремела по всей губернии, и в гавриловский монастырь из-за сотен верст стекались благочестивые души, жаждавшие слушания «медовой службы» Иринарха и уединенных бесед с этим пастырем словесного стада в его игрушках-комнатах. Рассказывали, что богомольные красивые барыни приезжали за тысячи верст, чтобы посмотреть красавца-владыку и удостоиться поднести ему какой-нибудь ценный подарок на память. Иринарх очень благосклонно относился к этим «взыскующим града», и слава его росла вместе с рассказами о его тысячных рысаках, дорогих обедах и тонких винах.
Я не буду входить в подробности той тяжелой жизни, какая выпала на мою долю за монастырской стеной; по приведенному типу Иринарха можно сделать приблизительное о ней понятие; но когда наступили первые летние каникулы в моей жизни, я обезумел от радости. Все, что было во мне напускного и взятого напрокат, — все это, как чешуя, отпало само собой, уступив место могучему чувству беспредельной любви к родине. Правда, мне очень тяжело было расставаться с Симочкой, но я сейчас же утешился, как отъехал от Гавриловска верст двадцать. Я равнодушно тащился между колосившихся нив и богатых деревень на крестьянской телеге вместе с другими товарищами и смотрел туда, на север, где волнистой линией в синеватой дымке горизонта вставали и все сильней выяснялись силуэты Уральских гор: там Тараканова, там отец и мать, сестры и брат… Как я обниму их всех!.. А Луковна? Меркулыч? Что-то они делают все и как встретят меня?.. Опять жить в лесу, на охоте и на целых полтора месяца забыть об Иринархе, о дежурстве в «каменном мешке», сценах «под колоколом», где по субботам драли учеников, о Гришке и Антоне, лупивших меня на все корки.
Что прежде всего и самым приятным образом поразило меня, так это то, что я сразу почувствовал, что в нашем доме как будто не стало прежней вопиющей бедности, — лучше ели и лучше одевались. Дело объяснилось очень просто тем, что Аполлон поступил на службу, и хотя получал всего пятнадцать рублей жалованья, но все эти деньги отдавал отцу. Эти сто восемьдесят лишних рублей в год были для нашей семьи якорем спасения, тем более что мое учение обходилось в год в сорок пять рублей, — цифра совсем невероятная в нынешнее время, а она имела значение действительности десять-пятнадцать лет тому назад.
Меня опечалило лишь одно обстоятельство, именно то, что Луковны не было в Таракановке; она уехала в Петербург проведать Сергея Павлыча, который сильно прихварывал весной или, как объясняли другие, хотел жениться и для этого выписал свою «маменьку». В избушке жил теперь один неукротимый Кинтильян, и я совсем не заглядывал в эту пещеру рыкающего льва; зато мы с братом каждый день бывали у Меркулыча. Лапа теперь называлась Олимпиадой Павловной, она пополнела и сделалась рыхлой; спала даже на ходу и просыпалась только тогда, когда считала нужным обругать Меркулыча. Этот примерный муж выносил с примерным терпением от своей супруги все и только лукаво подмигивал, потому что Лапа, то есть Олимпиада Павловна, находилась в таком положении, которое требовало присутствия и самого деятельного участия Климовны, этой сплетницы-старушонки, распустившей о Лапе пред приездом доктора свои сплетни. Меня удивляло терпение Меркулыча, который позволял этой старушонке появляться в его доме.
В июле поспели всякие выводки, и мы с Меркулычем начали свой охотничий сезон. Олимпиада Павловна не только не удерживала Меркулыча, но сама гнала его и постоянно смеялась над Аполлоном, который, ссылаясь на ревматизм, совсем не ходил на охоту и оставался дома. Я отдавался этому удовольствию с полной страстью и был недоволен поведением Меркулыча, который относился к делу уже не с прежним самоотвержением, а, как кажется, с единственною целью побольше набить дичи; этот промышленный дух, который сменил прежнее поэтическое удовольствие, огорчал и даже оскорблял меня. Затем не было и помину о том, чтобы провести ночь где-нибудь в глухом лесу, как это мы делали прежде: Меркулыч рвался на свое пепелище и морщил лоб, когда мы запаздывали, — словом, это был другой человек, и я не скучал с ним только потому, что больше не с кем было ходить на охоту, а время бежало с поразительной быстротой, приближая роковую минуту отъезда в Гавриловск под высокое покровительство Иринарха.
Раз, в конце июля, подхожу ранним утром к домику Меркулыча, и только занес было руку, чтобы постучать в окно, и вперед отлично представлял себе, как в окне покажется заспанная физиономия моего друга с взъерошенными волосами, — руки сами опустились, и я простоял под окном несколько минут в совершенном оцепенении, точно по мне кто-нибудь выстрелил: новенькие ворота домика Меркулыча были вымазаны широкими полосами дегтя… В переводе это означало самую ужасную вещь, какая только существует в провинциальной жизни: вымазанные дегтем ворота — это вечный позор дома и несмываемое пятно на его репутации. Я долго не мог прийти в себя, а когда в окне показался Меркулыч, я ничего не мог выговорить, а только показал знаками, чтобы он сейчас же вышел на улицу. Когда Меркулыч показался в калитке, я молча указал ему на ворота. Бедный мой друг побледнел и слабо вскрикнул.
— Кирша, что это… Господи… — бессвязно бормотал растерявшийся Меркулыч, выпуская из рук полы своего халата.
Отворить ворота, снять вымазанные половинки с петель и убрать их на задний двор — было делом одной минуты; в следующую затем минуту Меркулыч в щепы разрубил эти несчастные половинки, и мы молча спрятали их в конюшне. Об охоте в этот день нечего было и думать, великолепное утро пропало, и я вернулся домой с «растрепанными чувствами»; пред моими глазами стоял убитый Меркулыч, который со слезами на глазах побелевшими губами шептал: «За что? Господи… Кому я сделал зло?» Лежа в постели, я долго думал, кто бы мог устроить такую штуку Меркулычу, и решил, что это дело Прошки. Несмотря на свое огорчение, я заснул самым крепким сном, а когда проснулся, было уже часов одиннадцать утра, и в передней сидела с своим таинственным видом Климовна — значит, как я догадался, весть о скандале успела уже облететь всю Таракановку, и наши усилия скрыть всякие следы остались тщетными. Мать была, видимо, огорчена и старалась не смотреть на меня, сестры шептались, отца и Аполлона не было дома.
— Жаль… как жаль! — шептала поблекшими губами Климовна. — Она-то последнее время ходит, пожалуй, чего бы не попритчилось… А сам-то сел в угол и сидит, как очумелый; из волости присылали за ним, не пошел.
Отец скоро вернулся, он был у Меркулыча, и только махнул рукой, когда мать вопросительно посмотрела на него.
— Ни за грош зарезали парня, — говорил он, когда Климовна вышла: — Меркулыч ни на кого не думает. Встретил сейчас Прошку на улице, улыбается, животное; так бы по толстой морде его и смазал…
— Викентий Афанасьич?!.
— Ах, матушка, что за церемонии! Если бы не сан мой да не старость, — засучил бы рукава и собственными руками… Понимаешь? Было время, когда лошадь за передние ноги поднимал… Да, был конь, да уезжен!
Эта история с Меркулычем наделала большого шуму; сам Меркулыч целую неделю никуда не показывался, Олимпиада Павловна заливалась слезами, как река, и несколько раз прибегала к нам в самом отчаянном виде. Дело кончилось тем, что Меркулыч жестоко запил, и все пошло вверх дном. Он походил теперь скорее на зверя, чем на человека, и несколько раз с ножом бросался на беременную жену, а когда приходил в себя, плакал и на коленях просил прощения. Отец несколько раз ходил к нему делать увещания. Меркулыч слушал его, обещал исправиться и запивал горше прежнего. Я не оставлял своего друга, но мое присутствие едва ли сколько-нибудь помогало Меркулычу: он пил рюмку за рюмкой, ломал все, что попадалось ему под руку, и по всей вероятности сошел бы совсем с ума, если бы в самую критическую минуту не явилась из Петербурга Луковна, торопившаяся к «разрешению» дочери.