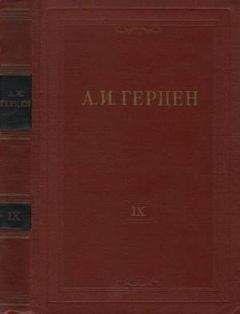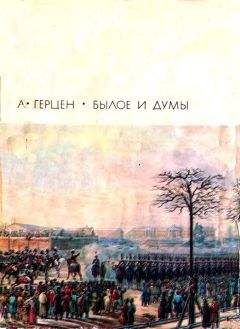Вот этого-то общества, которое съезжалось со всех сторон Москвы и теснилось около трибуны, на которой молодой воин науки вел серьезную речь и пророчил былым, – этого общества не подозревала Жеребцова. Ольга Александровна была особенно добра и внимательна ко мне потому, что я был первый образчик мира, неизвестного ей; ее удивил мой язык и мои понятия. Она во мне оценила возникающие всходы другой России, не той, на которую весь свет падал из замерзших окон Зимнего дворца. Спасибо ей и за то!
Я мог бы написать целый том анекдотов, слышанных мною от Ольги Александровны: с кем и кем она ни была в сношениях, от графа д'Артуа и Сегюра до лорда Гренвиля и Каннинга, и притом она смотрела на всех независимо, по-своему и очень оригинально. Ограничусь одним небольшим случаем, который постараюсь передать ее собственными словами.
Она жила на Морской. Раз как-то шел полк с музыкой по улице; Ольга Александровна подошла к окну и, глядя на солдат, сказала мне:
– У меня дача есть недалеко от Гатчины, летом иногда я езжу туда отдохнуть. Перед домом я велела сделать большой сквер, знаете, эдак на английский манер, покрытый дерном. В запрошлый год приезжаю я туда; представьте себе – часов в шесть утром слышу я страшный треск барабанов; лежу ни живая, ни мертвая в постели; все ближе да ближе; звоню, прибежала моя калмычка. «Что, мать моя, это случилось? – спрашиваю я, – шум какой?» – «Да это, – говорит, – Михайла Павлович изволит солдат учить». – «Где это?» – «На нашем дворе».
– Понравился сквер – гладко и зелено. Представьте себе, дама живет, старуха, больная! – а он в шесть часов, в барабан. Ну, думаю, это – пустяки. «Позови дворецкого». Пришел дворецкий; я ему говорю: «Ты сейчас вели заложить тележку да поезжай в Петербург и найми сколько найдешь белоруссов, да чтоб завтра и начали копать пруд». Ну, думаю, авось, навального[44] учения не дадут под моими окнами. Все это невоспитанные люди!
…Естественно, что я прямо от графа Строгонова поехал к Ольге Александровне и рассказал ей все случившееся.
– Господи, какие глупости, от часу не легче, – заметила она, выслушавши меня. – Как это можно с фамилией[45] тащиться в ссылку из таких пустяков! Дайте я переговорю с Орловым, я редко его о чем-нибудь прошу – они все не любят этого; ну, да иной раз может же сделать что-нибудь. Побывайте-ка у меня денька через два, я вам ответ сообщу.
Через день утром она прислала за мной. Я застал у нее несколько человек гостей. Она была повязана белым батистовым платком вместо чепчика – это обыкновенно было признаком, что она не в духе, щурила глаза и не обращала почти никакого внимания на тайных советников и явных генералов, приходивших свидетельствовать свое почтение.
Один из гостей с предовольным видом вынул из кармана какую-то бумажку и, подавая ее Ольге Александровне, сказал:
– Я вам привез вчерашний рескрипт князю Петру Михайловичу, может, вы не изволили еще читать?
Слышала ли она или нет, я не знаю, но только она взяла бумагу, развернула ее, надела очки и, морщась, с страшными усилиями, прочла: «Кня-зь, Пе-тр Ми-хайло-вич!..»
– Что вы это мне даете?.. А?.. Это не ко мне?
– Я вам докладывал-с, это рескрипт…
– Боже мой, у меня глаза болят, я не всегда могу читать письма, адресованные ко мне, а вы заставляете чужие письма читать.
– Позвольте я прочту… я, право, не подумал.
– И, полноте, что трудиться понапрасну, какое мне дело до их переписки; доживаю кое-как последние дни, совсем не тем голова занята.
Господин улыбнулся, как улыбаются люди, попавшие впросак, и положил рескрипт в карман.
Видя, что Ольга Александровна в дурном расположении духа и в очень воинственном, гости один за другим откланялись. Когда мы остались одни, она сказала мне:
– Я просила вас сюда зайти, чтоб сказать вам, что я на старости лет дурой сделалась; наобещала вам, да ничего и не сделала; не спросясь броду-то, и не надобно соваться в воду, знаете, по мужицкой пословице. Говорила вчера с Орловым об вашем деле – и не ждите ничего…
В это время официант доложил, что графиня Орлова приехала.
– Ну, это ничего, свои люди, сейчас доскажу.
Графиня, красивая женщина и еще в цвете лет, подошла к руке и осведомилась о здоровье, на что Ольга Александровна отвечала, что чувствует себя очень дурно, потом, назвавши меня, прибавила ей:
– Ну сядь, сядь, друг мой. Что детки, здоровы?
– Здоровы.
– Ну, слава богу; извини меня, я вот рассказываю о вчерашнем. Так вот, видите, я говорю ее мужу-то: «Что бы тебе сказать государю, ну как это пустяки такие делают?» Куда ты! Руками и ногами уперся. «Это, – говорит, – по части Бенкендорфа; с ним, пожалуй, я переговорю, а докладывать государю не могу: он не любит, да у нас это и не заведено». – «Что же это за чудо, – говорю я ему, – поговорить с Бенкендорфом? Я это и сама умею. Да и он-то что уж из ума выжил, сам не знает, что делает? Все актриски на уме, – кажется, уж и не под лета волочиться; а тут какой-нибудь секретаришка у него делает доносы всякие, а он и подает. Что же он сделает? Нет, уж ты лучше, говорю, не срами себя, что же тебе просить Бенкендорфа – он же все и напакостил». – «У нас, – говорит, – уж так заведено», – и пошел мне тут рассказывать… Ну! вижу, что он просто боится идти к государю… «Что он у вас это, зверь, что ли, какой, что подойти страшно? И как же всякий день вы его пять раз видите?» – молвила я, да так и махнула рукой, – поди с ними толкуй. Посмотрите, – прибавила она, указывая мне на портрет Орлова, – экой бравый представлен какой, а боится слово сказать!
Вместо портрета я не мог удержаться, чтоб не посмотреть на графиню Орлову; положение ее было не из самых приятных. Она сидела, улыбаясь, и иногда взглядывала на меня, как бы говоря: «Лета имеют свои права, старушка раздражена»; но, встречая мой взгляд, не подтверждавший того, она делала вид, будто не замечает меня. В речь она не вступала, и это было очень умно. Ольгу Александровну унять было бы трудно; у старухи разгорелись щеки, она дала бы тяжелую сдачу. Надобно было прилечь и ждать, чтоб вихрь пронесся через голову.
– Ведь это, чай, у вас там, где вы это были, в этой в Вологде, писаря думают: «Граф Орлов – случайный человек, в силе»… Все это – вздор, это подчиненные его, небось, распускают слух. Все они не имеют никакого влияния, они не так себя держат и не на такой ноге, чтоб иметь влияние… Вы уже меня простите, взялась не за свое дело. Знаете, что я вам посоветую? Что вам в Новгород ездить! Поезжайте лучше в Одессу, подальше от них, и город почти иностранный, да и Воронцов, если не испортился, человек другого «режиму».
Доверие к Воронцову, который тогда был в Петербурге и всякий день ездил к Ольге Александровне, не вполне оправдалось; он хотел меня взять с собой в Одессу, если Бенкендорф изъявит согласие.
…Между тем прошли месяцы, прошла и зима, никто мне не напоминал об отъезде, меня забыли, и я уж перестал быть sur le qui vive[46], особенно после следующей встречи. Вологодский военный губернатор Болговский был тогда в Петербурге; очень короткий знакомый моего отца, он довольно любил меня, и я бывал у него иногда. Он участвовал в убийстве Павла, будучи молодым семеновским офицером, и потом был замешан в непонятное и необъясненное дело Сперанского в 1812 году. Он был тогда полковником в действующей армии, его вдруг арестовали, свезли в Петербург, потом сослали в Сибирь. Он не успел доехать до места, как Александр простил его, и он возвратился в свой полк. Раз весною прихожу я к нему; спиною к дверям в больших креслах сидел какой-то генерал, мне не было видно его лица, а только один серебряный эполет.
– Позвольте мне представить, – сказал Болговский, и тут я разглядел Дубельта.
– Я давно имею удовольствие пользоваться вниманием Леонтия Васильевича, – сказал я, улыбаясь.
– Вы скоро едете в Новгород? – спросил он меня.
– Я полагал, что мне надобно у вас спросить об этом.
– Ах, помилуйте, я совсем не думал напоминать вам, я вас просто так спросил. Мы вас передали с рук на руки графу Строганову и не очень торопим, как видите; сверх того, такая законная причина, как болезнь вашей супруги… (Учтивейший в мире человек!). Наконец, в начале июня я получил сенатский указ об утверждении меня советником новгородского губернского правления. Граф Строгонов думал, что пора отправляться, и я явился около 1 июля в богом и св. Софией хранимый град Новгород и поселился на берегу Волхова, против самого того кургана, откуда волтерианцы XII столетия бросили в реку чудотворную статую Перуна.
Губернское правление. – Я у себя под надзором – Духоборцы и Павел. – Отеческая власть помещиков и помещиц. – Граф Аракчеев и военные поселения. – Каннибальское следствие. – Отставка.
Перед моим отъездом граф Строгонов сказал мне, что новгородский военный губернатор, Эльпидифор Антиохович Зуров, в Петербурге, что он говорил ему о моем назначении, и советовал съездить к нему. Я нашел в нем довольно простого и добродушного генерала очень армейской наружности, небольшого роста и средних лет. Мы поговорили с ним с полчаса, он приветливо проводил меня до дверей, и там мы расстались.