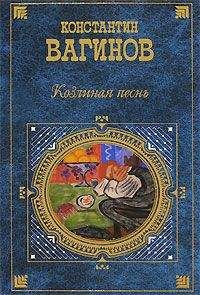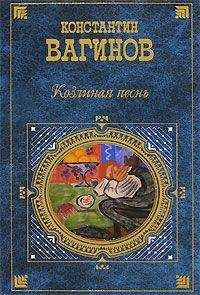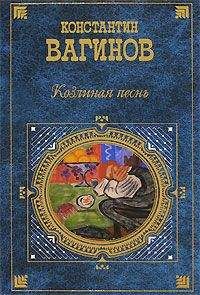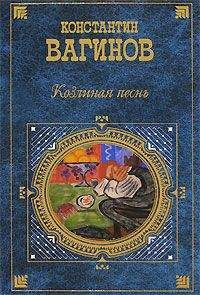Ермилов находил в кухне чай, наскоро выпивал стакан-другой и убегал на огромный завод на Косой линии и с завода, на заводе же перекусив, отправлялся в тоскливое странствие до глубокой ночи.
После драмы «17 самураев», где действие происходило то на холме Цапли в Камакура, то в Сосновой Галерее, во дворце диктатора Асикага, то в доме Долины Вееров, то у дворца церемониймейстера Коно Моронао, Ермилов возвращался домой полный впечатлений от последней сцены сладостного совершения мести.
Он вспомнил покойного критика-импрессиониста, чья неумеренно хвалебная статья о другой славной балерине, по мнению Василия Васильевича, и послужила толчком к гибели Вареньки.
Полный мыслей о мести, Василий Васильевич встретился с Екатериной Васильевной в коридоре.
Это была, как почти всегда, мнимонечаянная встреча. Екатерина Васильевна уже хотела скрыться в своей комнате, но Василий Васильевич, чувствуя отчаянное сердцебиение, натыкаясь, почти наступая на приветствующих собак, закричал:
– Екатерина, я отомщу! Я обязательно отомщу! Я встречусь с ним, я заставлю его раскаяться…
И следует Василий Васильевич, страшно волнуясь, за Екатериной Васильевной. Екатерина Васильевна не верила в возможность совершения мести, но все же лед был сломан, и престарелые брат и сестра стали советоваться о мести.
Губы у Василия Васильевича подергивались, он успокаивал и гладил левой свою сводимую судорогой правую руку с одеревенелыми пальцами и строил всевозможные предположения.
Вот критик – умирает, а он, Василий Васильевич, является к нему в больницу и останавливается с укоризненным видом у постели.
«Простите, – говорит тот, – видите, я умираю». – «Нет, я не прощу – ни за что не прощу», – отравляет последние минуты умирающего Василий Васильевич.
Когда Ларенька от Евгения узнала подробности, ей сделалось страшно. Она ясно представила эту дикую сцену: Василий Васильевич, как всегда, хлопоча об увековечении своей дочери, спешит по улице в незнакомый, новый для него дом; горят вечерние огни, панели мокры, булочные и кооперативы прерывают эту панель ослепительными световыми полосами; в полосу света попадает Василий Васильевич и падает. Вокруг собирается толпа, под аккомпанемент трамвайных звонков – шутки и смешки, и остроты над мнимопьяным; суетня и подталкивание мальчишек; карета скорой помощи и отвоз старика в больницу.
Вскрытие. Мертвецкая. Колесница. Верная галерка позади. Бедный Василий Васильевич! Знакомые и галерка расходятся, разъезжаются на трамваях.
Евгений был бледен во время своего рассказа. Он видел, как Василий Васильевич странствует по кругам жизни, ведомый своей дочерью, как новым Вергилием. Он вспомнил, что Василий Васильевич не брезговал даже пивными, ночлежными домами, пытаясь всюду занести образ Вареньки.
Евгений пошел к Керепетину. Керепетин собирался на вечеринку. Увидев Евгения и не дав ему произнести и слова, Керепетин воскликнул:
– Отправимся вместе.
Каждый приходил и брал что хотел, так что Евгений не мог понять, кто хозяин.
За столом Евгения поразила крошечная перечница, он придвинул ее к себе.
Едва он успел спрятать ее, как стали вставать.
Один из сильно выпивших гостей, отодвигая стул своей соседки, зацепил за скатерть.
Гам и веселье были покрыты звоном разбивающегося хрусталя, бренчанием тарелок, стуком еще не допитых бутылок, металлическим дребезжанием ножей и вилок.
Апельсины катились в разные стороны, их догоняли ручейки вина.
По лицу одного из присутствующих Евгений понял, кто является хозяином.
Утром Евгений почувствовал, что ему нечем дышать.
«Э, – подумал он, – неужели астма? Бедное мое сердце, оно отказывается служить».
К вечеру он встал. Грудная клетка болела.
«Интересно было бы смерить температуру, – подумал он, – может быть, грипп?»
Стал осматривать перечницу в виде башенки с золотым шариком наверху, с прусским орлом на донышке.
«Должно быть, это XVIII век. А может быть, это совсем не перечница, – подумал Евгений, – а старинный аппарат для освежения воздуха? Даже наверное сюда клали какое-нибудь благоухающее снадобье – амбру, может быть. Ведь даже в начале XIX века носили в кармане крошечные ящички для амбры, украшенные миниатюрами. Наверное, этот аппарат появился во Франции под влиянием китайских курильниц. Восемнадцатый век – я не в восторге от XVIII века, хотя со шведским XVIII веком интересно было бы познакомиться. Испанские костюмы при дворе. Честолюбивый Густав III как будто забавная фигура. Не смешивал ли он в своей палатке планы битвы с планами своей драмы или оперы? Недаром подданные умоляли, бросаясь перед ним на колени, вспомнить, что он король, а не актер».
И Евгений вспомнил, что где-то читал, что Густав III чаще всех остальных коронованных особ проводил время вне своего государства. То он охотился на красного зверя в лесах неаполитанских, то пробегал галереи во Флоренции, то участвовал в празднике в Трианоне.
Как оглушенный вышел Евгений от врача. «Значит, это совсем не сердце, скорей, скорей бежать отсюда». Сейчас отвратительным казался Евгению туманный город, освещенный молочно-белыми фонарями, столь любимый Торопуло. Евгений чувствовал, что он задыхается. «Бежать, скорей бежать! Какая тоска!.. И денег нету…»
Амур с обломанными крылышками стоял на тумбе посредине комнаты; золоченые кресла, диваны и зеркала стояли по стенам.
Пришлось ждать довольно долго; по номеркам пускали.
Евгений взбежал по лестнице, но остановился в подъезде.
Вспомнил, что цветочный магазин на Владимирской, но подумал, что смешно явиться к регистраторскому столу с цветами, хотя цветы доставили бы сильную радость Лареньке. Подумал Евгений, подумал и пошел за цветами.
Жених и невеста оставили цветы в бумаге на диване и прошли в регистратуру. Они посидели перед столом, ответили на вопросы и расписались.
Затем побежали. Фелинфлеин бежал впереди; за ним Ларенька с завернутыми в бумагу цветами.
– Теперь все! Теперь ты удовлетворена? Я на тебе женился. Я уезжаю.
Чтобы развлечь Лареньку, Эрос Керепетин решил показать радугу. Он набрал в рот воды, поместился у окна к солнцу и изверг воду изо рта в виде множества частиц.
– Бросьте ребячиться! – вскричала Ларенька. – Не до шуток мне теперь.
Эрос Керепетин сел. «Дело серьезнее, чем я думал. Надо что-нибудь предпринять».
Но Эрос Керепетин ничего не предпринял; только посидел полчаса.
– Пойдемте к Торопуло, – сказал он.
Чтобы занять Лареньку, Торопуло перед ней разложил свои альбомы.
1. Политика.
2. Техника.
3. Быт.
4. Жанровые сцены.
5. Портретная галерея.
6. Виды.
7. Флора.
8. Фауна.
9. Мифология. Былины. Сказки.
Ларенька из вежливости взяла один, прочла: 1900–1917. Ларенька рассеянно остановилась на «Танцах»: Кэкуок. Она – полная брюнетка с большим бюстом; он – извивающийся негр в красном фраке. Ойра – весьма веселый танец. Танго – великосветские фигуры; и дальше – вальсы, польки, мазурки, платье. Дальше вот народная карамель: гадальная с изображением карт, а под ними предсказание:
«Вас ждет трефовая постель». Или:
«Пика вдаряется в трефу».
Торопуло пояснил Лареньке метод своего собирания.
– Видите, какой альбом, – говорил он, – а если мы возьмем другой альбом – скажем, 1917, то тут уже совсем другое.
1. Гражданская война.
2. Трудовые процессы.
3. Революционные празднества.
4. Портреты вождей.
5. Лозунги.
6. Пропаганда техники.
7. Времена года… -
И так далее.
– Вот видите, карамель «Буденовка», с несущимся всадником в красноармейской шапке; вот «Пионер», «Совторгфлот», «Тир», «Красин», «Карамель кооперативная», «Конфеты СССР». Но попадаются и «Версаль», и «Чио-Сан», и «Шалость» – в виде голландской девочки, вылезающей из горшка с молоком. Но это уже становится рудиментом.
– Но вам, может быть, будут интересней, – продолжал Торопуло, – другие конфетные обертки. – Вот Шерлок Холмс спасает человека, лежащего на рельсах, вот «Путешествие вокруг луны» Жюль-Верна, вот «Багдадский вор», вот Джон Грей.
Ларенька увидела своего бедного папашу, высокого и круглолицего блондина с усами, оптимистически стремящимися вверх, и аккуратно подбритой бородкой, единственным богатством которого была его коллекция; увидела, как собирает он конфетные бумажки, как по вечерам перебирав их и как сердится ее мамаша…
Бледный, худой, в огромный красный сундук бросал он эти бумажки. Иногда пробовал складывать их в пачки, но затем оставлял это занятие и снова бросал в сундук.
«Бедный, бедный папа!» – подумала Ларенька.
И вспомнила могилку на Митрофаньевском кладбище, с жестяной дощечкой:
«Коллежский советник Семен Семенович Черноусенков. Родился в 1869 г., умер в 1908 г.».
«Совсем нельзя сравнить моего папашу с Торопуло, хотя и папаша собирал конфетные бумажки», – подумала Ларенька.