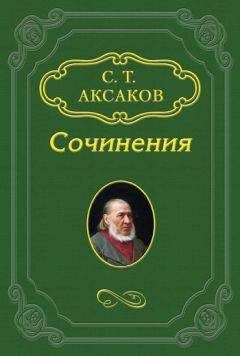Наступление зимы с ее первыми порошами и легкими морозами на некоторое время опять дало мне возможность предаваться моим охотам. По порошам сходили зайцев, русаков и беляков. Отец брал меня с собою, и мы, в сопровождении толпы всякого народа, обметывали тенетами лежащего на логове зайца почти со всех сторон; с противоположного края с криком и воплями бросалась вся толпа, испуганный заяц вскакивал и попадал в расставленные тенета, Я тоже бегал, шумел, кричал и горячился, разумеется, больше всех. Я очень любил эту забаву и любил толковать о ней с моим отцом. Когда мать моя бывала чем-нибудь занята и я мешал ей своими вопросами и докуками, или когда она бывала нездорова, то обыкновенно посылала меня к отцу, прибавляя: «Поговори с ним об зайчиках», – и у нас с отцом начинались бесконечные разговоры. – Кроме охоты за зайцами, у меня была большая охота ставить поставушки на маленьких зверьков: хорьков, горностаев и ласок. Снятые шкурки пойманных зверьков, гладкие и красивые, висели, как трофеи, у моей кровати. Но скоро глубокие снега начали засыпать сугробами землю, забушевали бураны, и все мои охоты решительно прекратились. Страшное и печальное зрелище зимний буран не только в степи, но и в теплом жилье! Занесет окна, надует снегу даже в сени, заметет все дорожки от дома в людские избы, так что надобно отрывать их лопатами; в десяти саженях не видать строения, в десяти шагах не видать человека! Наконец, навалит такие снежные громады, что кажется, никогда они не растают, – и уныние невольно овладевает душой! В столицах не могут иметь понятия об этом, но деревенские жители меня понимают и сочувствуют мне. – Я окончательно заключился в стенах дома и никак не мог упросить мою мать, чтоб меня отпускали с отцом, который езжал иногда на язы (около Москвы называют их завищами), то есть на такие места, где река на перекатах, к одной стороне, более глубокой, загораживалась плетнем или сплошными кольями, в середине которых вставлялись плетеные морды (нерота, верши, по-московски). Около святок и даже ранее начинали попадать в них налимы, иногда очень крупные. Привезут, бывало, их, окоченевших от сильного мороза, вывалят в большое корыто с водой, и мраморные, темно-зеленые, пузатые налимы оттают понемногу, начнут плескаться, пошевеливая мягкими своими хвостами, опушенными мягкими перьями. Долго не отходил я от корыта, любуясь их движениями и отскакивая всякий раз, когда летели водяные брызги от их плес или хвостов. У отца моего много сидело налимов в больших плетеных сажалках – и вкусная налимья уха и еще вкуснейшие пироги с налимьими печенками почти всякий день бывали у нас на столе, покуда всем так не наскучивали, что никто не хотел их есть. Тогда начинали налимов приготовлять изредка и окончательно уже истребляли в продолжение великого поста.
По той же самой причине, что моя мать была горожанка, как я уже сказал, и также потому, что она провела в угнетении и печали свое детство и раннюю молодость и потом получила, так сказать, некоторое внешнее прикосновение цивилизации от чтения книг и от знакомства с тогдашними умными и образованными людьми, прикосновение, часто возбуждающее какую-то гордость и неуважение к простонародному быту, – по всем этим причинам вместе, моя мать не понимала и не любила ни хороводов, ни свадебных и подблюдных песен, ни святочных игрищ, даже не знала их хорошенько. С большим трудом уступала она иногда просьбам тетки позволить мне посмотреть на них; тетка же, как деревенская девушка, все это очень любила; она устраивала иногда святочные игры и песни у себя в комнате, и сладкие, чарующие звуки народных родных напевов, долетая до меня из третьей комнаты, волновали мое сердце и погружали меня в какое-то непонятное раздумье. Мне было очень досадно, что не позволяли не только самому участвовать, но даже присутствовать на этих играх и, вследствие такого строгого запрещения, меня соблазнили, наконец, обманывать свою умную и так горячо любимую мать. Разумеется, я сначала просился и приставал с вопросами к моей матери: для чего она не пускает меня на игрища? Мать отвечала мне решительно и строго: «что там бывает много глупого, гадкого и неприличного, чего мне ни слышать, ни видеть не должно, потому что я еще дитя, не умеющее различать хорошего от дурного». А как я ничего дурного не видел или, видя, не понимал, в чем оно состоит, то повиновался неохотно, без внутреннего убеждения, даже с неудовольствием. Тетка же моя с своими сенными девушками говорили совсем другое; они утверждали, «что у матери моей такой уже нрав, что она всем недовольна и что все деревенское ей не нравится, что оттого она нездорова, что ей самой невесело, так она хочет, чтоб и другие не веселились». Такие слова вкрадчиво западали в мой детский ум, и следствием того было, что один раз тетка уговорила меня посмотреть игрище тихонько; и вот каким образом это сделалось: во все время святок мать чувствовала себя или не совсем здоровою, или не совсем в хорошем расположении духа; общего чтения не было, но отец читал моей матери какую-нибудь скучную или известную ей книгу, только для того, чтоб усыпить ее, и она после чая, всегда подаваемого в шесть часов вечера, спала часа по два и более. Я в это время уходил к тетке. В один из таких удобных часов она уговорила меня посмотреть игрища и, завернув с головой в шубу и отдав на руки здоровенной своей девке Матрене, отправилась со мной в столярную избу, где ожидала нас, переряженная в медведей, индеек, журавлей, стариков и старух, вся девичья и вся молодая дворня. Несмотря на сальные вонючие огарки, даже дымную лучину, плохо освещавшую просторную избу, несмотря на удушливый мефитический[26] воздух, сколько было истинной веселости на этих деревенских игрищах! Чудные голоса святочных песен, уцелевшие звуки глубокой древности, отголоски неведомого мира, еще хранили в себе живую обаятельную силу и властвовали над сердцами неизмеримо далекого потомства! Каким-то хмелем веселья, опьянением радости проникнуты были все. Взрывы звонкого дружного смеха часто покрывали и песни и речи. Это были не актеры и актрисы, представляющие кого-то для удовольствия других, – себя выражали одушевленные песенницы и плясуньи, себя тешили они от избытка сердца, и каждый зритель был увлеченное действующее лицо. Все пело, плясало, говорило, хохотало – и в самом разгаре, в чаду шумного общего веселья, те же сильные руки завертывали меня в шубу и стремительно уносили из волшебного сказочного мира… Долго я не засыпал в эти ночи, и долго странные образы плясали и пели вокруг меня и не расставались со мною даже в сновидениях. {1} В первый раз я был увлечен в этот обман внезапно, почти насильно, и по возвращении домой долго не смел смотреть прямо в глаза моей матери; но очаровательное зрелище так меня пленило, что в другой раз я охотно согласился, а потом и сам стал приставать к моей тетке и проситься на игрища.
Наконец, переломилась жестокая зима и унялись трескучие морозы. У нас не было тогда термометров, и я не могу сказать, до сколька градусов достигала стужа, но помню, что птица мерзла и что мне приносили воробьев и галок, которые на лету падали мертвыми и мгновенно коченели; некоторым теплота возвращала жизнь. Вообще я должен заметить, что зимы во время моего детства и ранней молодости были гораздо холоднее нынешних, и это не стариковский предрассудок; в бытность мою в Казани, до начала 1807 года, два раза замерзала ртуть, и мы ковали ее, как разогретое железо. Теперь уже в Казани это сделалось преданием старины.
Начало пригревать солнышко, начала лосниться дорога, пришла масленица, и началось катанье с гор. В общественных катаниях, к сожалению моему, мать также не позволяла мне участвовать, и только катаясь с сестрицей, а иногда и с маленьким братцем, проезжая мимо, с завистию посматривал я на толпу деревенских мальчиков и девочек, которые, раскрасневшись от движения и холода, смело летели с высокой горы, прямо от гумна, на маленьких салазках, коньках и ледянках: ледянки были не что иное, как старые решета или круглые лубочные лукошки, подмороженные снизу так же, как и коньки. Шумный говор и смех раздавался в бодрой, веселой толпе, часто одетой в фантастические костюмы, особенно когда летели вверх ногами наездники с высоких коньков или, быстро вертясь, опрокидывалась ледянка с какой-нибудь девчонкой, которая начинала визжать задолго до крушения своего экипажа. Как мне хотелось туда – в этот шум, говор и смех… и как после этого зрелища казалось мне скучным уединенное катанье с ледяной горки, устроенной в саду перед окнами гостиной, и только одно меня утешало, что моя милая сестрица каталась вместе со мной.
С наступлением великого поста оканчивались все зимние, очень немногие, удовольствия. Нельзя сказать, чтоб великий пост проходил у нас в посте и молитве. Мать моя постов не держала по нездоровью; я, конечно, не постничал; отец мой хотя не ел скоромного в успенский и великий пост, но при изобильном запасе уральской красной рыбы, замороженных илецких[27] стерлядей, свежей икры и живых налимов – его постный стол был гораздо лакомее скоромного. Церкви у нас еще не было, и ближайшая находилась в девяти верстах, в селе Мордовский Бугуруслан. Священник был как-то не расположен к нам, и мы езжали туда только по самым большим праздникам. Вообще должно сказать, что у нас дом был не то что не богомольный, но мало привычный к слушанью церковной службы, что почти всегда бывает при отдаленности церкви. Итак, великий пост провел я в обыкновенных, несколько усиленных, учебных занятиях. Ученица моя уже не печалила, а радовала меня своими успехами. Я играл с ней в куклы, строил городки из чурочек, а иногда читывал и растолковывал ей детские сказочки.