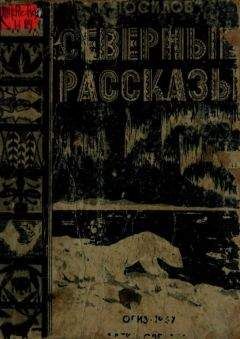Я задумался и не заметил, как снова началась ловля.
Красиво было смотреть на нее сверху, с птичьего полета.
Словно флотилия какая, выстроились в ряд, загородив реку, нижние лодки, тихо подвигались из-за прикрытия берега на чистое, блестящее плесо; навстречу им, из-за мыска, быстро надвигался другой ряд стройных лодочек, с плывущей сетью; кормщики молчаливо правили лодками; женщины, девушки ловко перегибались, подталкивались на ходу шестами, опуская их бесшумно в воду; все шло плавно, обдуманно, строго. И вдруг два крыла стали съезжаться, соединяться правильным образом, и пошла атака на рыбу. Шум, гам, крики, шлепающие по поверхности воды весла удары шестами, и среди реки, прямо передо мной, образовался полукруг, где видно было, как заперта рыба, видно было, как металась она.
И снова шумный натиск на берег, снова плеск воды, удары глушила, снова рыбы на берегу, громадные, полуторааршинные, снова все смешалось в толпе, которая набросилась на мотню и тащила ее на берег…
Еще две подобные тони, и мы поплыли к лагерю, где горели уже костры, и женщины ждали артель с обедом.
Пылали костры; над ними висели объемистые котлы, темные от сажи; кругом стояли деревянные корытца, валялись ложки, хлеб, — словом, все было готово, и мы дружною семьей сели за этот рыбацкий обед, который приготовлен был весь из рыбы.
— Откуда у вас пироги? — удивился я, видя, как на стол подали горячие рыбные пироги, видимо, только что вынутые из печи. — Разве у вас печь есть где в этом лесу?
— Нет, какая печь: это бабы наши пекут их под горячими камнями.
Пироги оказались превкусными, из свежих щук и налимов.
За пирогами следовала уха.
Я никогда в жизни не ел такой вкусной ухи, приготовленной в чугунных котлах, как приготовляют ее эти люди. Оказалось, в котел были свалены целых две громадных семги, вместе с головами и хвостами. На поверхности котла так и плавал янтарь их нежного жира, и тут же были печенки и молоки, что делало уху еще вкуснее. Кроме того, пара рыб была сварена и выложена в деревянные корытца.
Я удивился такой щедрости рыбаков и, обращаясь к ним, сказал:
— Однако, братцы, вы не жалеете на котел рыбы-то. Ведь это вы свалили в котел по крайней мере тридцать рублей, если продать рыбу…
Они засмеялись.
— Верно ты сказал — тридцать рублей. У вас купец не обедает так щедро, но мы не купцы, а рыболовы. Нам только и поесть здесь, на ловле, семги в эту пору года; привези ее в деревню — живо отберет купец-торгаш за долг. Что съедим, что попрячем в брюхо, то хоть наше… Век свой работаем мы на этих купцов-скупщиков и век все бедны!
После сытного обеда все завалились спать, и на берегу остались только девушки и некоторые женщины, которые занялись засолкой рыбы.
Рыба тут на берегу, у самой воды, поролась острыми ножами, потом ее немного прополаскивали и натирали солью и затем бросали в бочки и чаны, в которых был рассол, пока они не наполнялись доверху.
Все было самодельное, простое и убогое, и никто не подумал, что в этих бочках сохранялась чудная рыба, считающаяся чуть ли не лучшей на свете.
Потроша рыбу, женщины отделяли крупнозернистую, красно-оранжевую икру, величиной с горошины. Ее они клали отдельно в особые помещения и солили; но они совершенно были неопытны в приготовлении ее, и она кисла у них, будучи между тем бесподобной по вкусу.
Из лагеря подошел один старичок, который за старостью своею давно уже не участвовал в ловле. Мы разговорились с ним об этой икре.
— Вот благодаря этой икре, мы и ловим так успешно эту рыбу, — заметил старик.
— Как так, дедушка? — спрашиваю я.
— А не будь, барин, ее у них, она не стояла бы здесь у перекатов. Метать она сюда приходит с моря эту икру, ни за чем другим и прочим.
— А ты видал, дедушка, как она мечет эту икру?
— Сколько раз случалось! Сядь поди, на камешок, на переборе этом, притулись, и ты увидишь.
Но я не захотел проделать опыт, а решил лучше расспросить старика, веря ему на слово.
— Мечет она очень просто: подходит к самому перекату, становится где небыстрое место на мелкий песок, на гальки, и начинает там тереть брюхом. Трет, а икринки откатываются и собираются назади, а из них позади образуется валик, трет и выпускает понемножку из себя икру. Сколько, бывало, смотришь на рыбу-то в воде, а тронуть боишься. В другой бы раз острогой ее, большущую, да куда теперь — только пошевелись — шмыгнет так, что и не увидишь. Бойкая рыба, семга, всех рыб бойчее.
— И далеко заходит она по реке? — спрашиваю я.
— До самой, почитай, вершины. В Урале, говорят, ее пропасти! Только туда попасть нашему брату трудно. Быстра уж больно река, никак несподручно там нам рыболовить. Мы ловим ее при самом устье реки и после, когда она спускается, осенью ловим ее за борами в Печоре. Довольно с нас и здесь этой рыбы, — закончил старик.
Действительно, с них было довольно и этой рыбы, которая ловилась буквально перед каждым перекатом реки почти до самого устья реки Щугора, до самой обширной, быстрой Печоры.
Плывя немного спустя после этой маленькой, неожиданной остановки у рыбаков, я встретил еще не один перекат этой реки, у которого стояла семга. А вечерами, особенно ночами, под самый Петров день, она так металась с нельмою, что становилось даже жутко плыть ночью.
Только что бывало въедешь в отвесные берега реки, только что войдешь в этот естественный мрачный коридор, где страшная глубь и омут, и затихнешь невольно под их впечатлением, — как внезапно раздается по гладкой темной поверхности удар рыбы, страшный, сильный удар хвостом, от которого так и пойдет мороз по телу.
Но скоро мое плавание по Щугору было кончено: меня вынесло на плоту на реку Печору, и больше я уже не возвращался в это царство семги, которую доставляют отсюда массою даже в Петербург, где она считается самою вкусною и ценною из всех семг, которые ловятся в России.
Говорят, причиной этому — чистая вода горных речек. Река Щугор с Печорою и ее притоками, действительно, отличаются необыкновенно чистою водою. И очень может быть, что это главная причина того, что семга любит с моря заходить в эту реку и предпочитает ее всем другим рекам Ледовитого океана.
ДЕДУШКА САВВА И ЕГО ВНУКИ
Это было в самой вершине реки Конды, в самом глухом далеком углу вогульского края, когда я в 1892 году забрался туда с весны, чтобы видеть весь расцвет его природы среди лета.
Мне говорили местные жители, что это самое удобное место, и хотя там почти нет людей, хотя там почти уже край света, но там есть чудное озеро, на берегу которого осталось еще несколько маленьких юрточек, в которых можно будет укрыться на лето.
За сто верст до озера Орон-тур идут такие леса, такая глушь, что кругом ни души человеческой…
Едешь целый день по этому лесу, плетешься иногда без малого сутки, пока доберешься до человеческого жилья, и то заметишь его среди леса или по мелькающему меж деревьев огоньку, или уж тогда, когда неожиданно станут лошади, и ямщик скажет: „приехали, вылезай“.
Вылезешь из дорожных санок, пойдешь по сугробам к хижине и, действительно, увидишь во всей ее прелести, полузанесенную снегом. Залезешь в юрточку и найдешь там огонек и людей, которые с удивлением смотрят на тебя, недоумевая, откуда это взялся незнакомый, чужой человек.
И обрадуются люди, что нашелся еще на свете человек, которому люба их милая природа, и так обрадуются, так весело и дружелюбно смотрят, готовые угостить вас, если бы только хотя что-нибудь у них было. Но угостить, как на грех, нечем: рыба не ловится в реке, убить птицу — нет пороха.
Вот так-то по снежным сугробам, без дороги, мы и доехали, наконец, до озера Орон-тур, — цели нашей дальней поездки.
И хотя был март месяц, хотя солнышко радостно смотрело на землю, и по небу гуляли веселые, перистые облачка, но маленькие юрты Орон-тур-пауля мы нашли под снегом, и ни сосновый бор, который стоял кругом этого озера, ни самое озеро, спавшее под белой пеленой снега, ни самое жилье человека, ровно еще ничего не говорили о приближении весны, которая словно запоздала где-то и, быть может, недалеко за этим темным, мрачным лесом.
В этих-то юрточках в Орон-тур-пауле, который всего-навсего состоял из двух изб и одной старой хижины среди леса, я и встретил старика вогула Савву с его внучатами, которые потом сделались моими закадычными друзьями.
Я увидел его тотчас же, как только мы приехали к этим юрточкам, и нас пригласили вогулы зайти в первую избу.
Как сейчас, помню эту избу вогулов: темная, большая, с грязным полом и громадною, битою из глины, печкою, впереди стол и над ним закопченный образ, те же лавки, как у нашего крестьянина, те же голые стены из бревен, та же печь, с помещением и полатями, только лица ее обитателей не русские, все черные, скуластые, — черные, грубые волосы, черные бойкие, любопытные глаза и маленький приплюснутый нос. Одежда — армяк, ситцевая рубашка, платье, кофточка, платочек, — все было чисто русское, но надетое на грязное, никогда, кажется, не мытое тело. И я сразу почувствовал себя дома среди этих людей, которые подкупили меня своим радушием и гостеприимством.