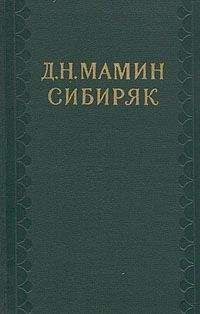– Это не поэзия.
– Что же это? – спросил я.
– Нет, – поправился Блок, – это поэзия, но и еще что-то.
– Что?
– Не знаю.
Теперь я понимаю, что в этой книге «таинственная сила» выделилась определенно как поэтическая, а другая часть ее оставалась, скажу, в смешанном состоянии и не поддавалась определению поэта.
Это было время борьбы с натуралистическим и гражданским направлением литературы, умиравшим в «Русском богатстве». Поэтическое «Я» разрозненно выбивалось из обветшалых форм, прислоняясь к ницшеанскому сверхчеловеку, очищалось, утончалось, пока, наконец, не заключило себя в формулу: Я – бог. То было величайшее дерзновение, подобное прыжку со скалы, в чаянии полета без крыльев с помощью одной только веры в себя. Трагедия автора сверхчеловека общеизвестна… Вслед за первым поэтом, посмевшим объявить себя богом, появилось бесчисленное множество богов. Все было похоже, как если бы Заратустра пришел в тропический лес, разостлал бы холст, накатал бы его на себя, как делают ловцы обезьян, потом опять раскатал бы холст и удалился. После того обезьяны, как это известно, подражая человеку, закатываются в холст, и в таком виде их ловят.
Множество поэтов закаталось в богов и в таком смешном виде были изловлены. Тогда началась новая форма морально-эстетической болезни: богоискательство. Какой-то наивный, внушенный мне с детства страх божий не дал мне возможности проделать вполне серьезно опыты самообожествления и последующего богоискательства, но, конечно, все было так любопытно, что и я отдавал дань своему времени. Из этнографа я стал литератором с обязательством к словесной форме как таковой. Подражая богам, я тоже стал писать о себе, но в совершенно обратном направлении с декадентами: поскольку в этом «Я» было общего всему миру. На этом пути я так и остался, стараясь все больше и больше приблизиться к простоте своей первой книги.
Конечно, я не мог не заметить, что все эти сменяющие одна другую школы, философские и религиозные искания мало имели значения для творчества тех, кто потом в трудах своих должен был остаться для истории, – для них был это, самое большее, метод, для рядовых – догмат, но как бы там ни было, вожди, рядовые, метод, догмат, реклама, богема, в преддверии катастрофы государства все дружно боролись за освобождение слова из плена натурализма в специфической гражданственности. Это искусство было похоже на удивительное сплетение белоснежных лилий и золотистых кувшинок, прикрывающих иногда на болотах бездонные окнища.
Я был свидетелем трагической цветущей эпохи словесного творчества. Миновать ли мне ее теперь при попытке моей в лице Алпатова подойти к органическому процессу творчества? Нет, я должен за великое свое счастие принять, что не но книжным материалам, а по лично пережитому имею возможность провести своего героя между встречными протоками декадентского эстетизма и революционного аскетизма к открытому морю органического творчества, где все живущее подчинено величайшему закону: «Помирать собирайся – рожь сей!»
Нет, конечно, если около таких больших вопросов поставить Алпатова эпохи эстетизма искусства и аскетизма революции, то ничто не должно помешать его достижениям. Меня смущает теперь лишь возможность воплотить все это в живую человеческую личность. Берет оторопь при первой мысли о том, что какой-то инженер в болотах открыл причину заболачивания края и этот незначительный факт каким-то образом должен свести его с творцами слова и среди них его выделить.
Если я вижу молодого автора, становящегося в тупик при работе над подмостками своего литературного здания, мне бывает смешно; все эти тупики происходят от необходимости разума строить подмостки в пределах пространства и времени, а когда дело доходит до самого здания, в постройке которого участвует весь человек, все решается иногда одной только фразой или словом, а то и просто чертой, за которой действие переносится на тысячу лет вперед или назад.
И вот все-таки, как актер, в сотый раз выступающий в одной и той же роли, по-прежнему трепещет и замирает, так и я ломаю себе голову над вопросом, что же такое могло Алпатова перебросить из болот Московского Полесья в салоны петербургского литературно-художественного творчества и чем же именно мог там обратить на себя внимание торфмейстер. Мне приходит в голову, что Золотая луговина, которую хочет Алпатов дать населению, утопающему в дубенских болотах, очень легко соединяется с мифом о золотом веке и так Алпатова через этот миф можно привлечь в мифотворческий кружок Вячеслава Иванова, а потом торфмейстер сделается символическим героем, вроде как строитель Сольнес у Ибсена или Генрих в «Потонувшем колоколе».
Но для такой постройки мне как-то мешает знание болот, отчего символическое творчество кажется условным, ненастоящим.
Обращаюсь к личной своей жизни: ведь я тоже агроном и с торфом очень много возился и прямо от торфа попал в салоны творчества. Я сделался литератором, потому что к этому делу у меня вдруг прорвались дремавшие способности. Но как мне кажется, радость моя в литературном деле происходит главным образом оттого, что посредством него я примыкаю к общему творчеству. Так случилось биографически, но Алпатова нельзя сделать литератором, потому что органический творческий процесс в словесном искусстве так замаскирован беллетристикой, что, если сказать «писатель», нужно много всего выяснять… Нет, по-видимому, мне надо в агрономии Алпатова найти такой творческий фокус, через который должны проходить лучи всякого творчества.
Может быть, я по ночам или во время своих охот бессознательно уже не один раз приходил к этому вопросу. Кто знает? Может быть, однажды я выпросил себе и командировку от «Рабочей газеты» для описания торфяного производства, повинуясь бессознательному влечению отыскать миф самых вещей, созданных в недрах природы, и что я несколько лет все блуждаю около дубенских болот, и что устроился прочно жить около них в Сергиеве. Я немного боюсь думать об этом, потому что это правда: жутко вскрывать колеблющиеся силы, управляющие повседневным разумом.
Как бы там ни было, но и в этот раз случилось то самое, что бывало уже множество раз с тех нор, как я попал на своего конька и получил способность отдаваться делу целиком и им поглощаться. Все равно, как и в первый раз, мне кажется таинственной эта сила, приводящая на службу мне случай, она непонятна мне, хотя я хозяйствую с ней так же разумно, как инженер с электричеством. Случилось, в тот самый час, когда я в центре белого листа начертил кружок, в который должен был вписать название фокуса моей вещи, и стал возле этого пустого кружка распределять материалы из жизни Алпатова, в кухне у меня за стеной залаяла собака, стерегущая электрический звонок. Так сложилось как-то само собой, что от старого звонка на дворе осталась теперь только проволока. Крестьяне, приходящие ко мне с предложением дров, молока и всего такого, никогда не смеют нажимать пуговицу электрического звонка, вероятно ей не очень доверяя, а гремят проволокой, и собаки на дворе отвечают дружным лаем. Интеллигентный человек всегда нажимает пуговку, но прислуга не всегда бывает в кухне, мне звонка этого в доме не слышно. Вот почему я в кухне устроил самую умную собаку, которая вызывает меня лаем, если в кухне нет никого, а звонок затрещал. Тогда я знаю, что за калиткой на улице стоит человек интеллигентный.
Услыхав этот лай, быстро спрятал я в стол лист со скелетом романа, вышел на двор и впустил к себе неизвестного мне, прилично одетого, с портфелем в руке, вполне интеллигентного средних лет человека. Он тут же у калитки рекомендовался культур-техником Сергиевского исполкома и сказал, что он ищет помощи у меня как литератора.
В комнате он вынул из портфеля рукопись своего труда, очень просил меня с ним ознакомиться и рекомендовать в какое-нибудь издательство.
Труд этот был компилятивной сводкой проектов осушения дубенских болот с подробным описанием географии, флоры, фауны и сложными хозяйственными расчетами. Появление этой работы в нужный момент я принял как чудо и, отпустив автора, прямо же и принялся за изучение.
Я узнал из этой работы, что в план осушения болот входит спуск знаменитого по своим охотничьим богатствам ледникового озера, и самое главное, что на дне его живет До сих пор крайне редкий реликт ледниковой эпохи, шарообразная бархатно-зеленая водоросль Клавдофора.
Мне сразу же показалось до крайности странным, что техники, составлявшие проект о спуске озера, не придали никакого значения тому, что драгоценнейший реликт ледниковой эпохи, сохранившийся только в двух точках земного шара, при спуске озера неминуемо должен погибнуть. Я вернулся к Алпатову с его Золотой луговиной, представил себе, что он, готовый спустить озеро, открывает этот реликт и вдруг останавливается перед вопросом: имеет ли право он, инженер, понимающий лишь техническую сторону дела, стереть с лица земного шара этот реликт с его неведомым мифом? Отодвинув проект осушения болот, я взял план своей работы и в центре листа в пустой кружок вписал: Клавдофора. Мгновенно весь скелет работы вспыхнул зеленым светом таинственного подводного растения и стал облекаться… Но я и тут не доверился. Правда, зачем мне спешить пускать в ход свою фантазию, если таинственная водоросль существует и я могу узнать так много от нее самой. Я начну с того, что сейчас же там, у техников, соберу о ней первые сведения, быть может, напишу о пей в газету, подниму шум: все пойдет мне на пользу, возможно даже я спасу эту водоросль, и путь ее спасения откроет мне совершенно новые горизонты для изображения творчества Алпатова.