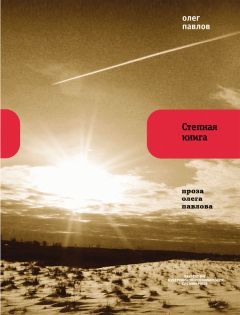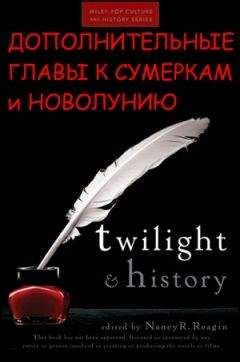Неизвестно, что снилось ему, если и мог он видеть сны. Но утверждал, что видит их, все злей и упрямей. Дрых он от безделья и лени, не желая уже дойти по нужде до уборной - и где-то поближе гадил, какой свободой даже гордился. Очнувшись, изнемогнув дрыхнуть, посылал салажонка за пайкой, которую и съедал, лежа в койке. Поднять его мог только офицер. Их Белов по привычке побаивался, как когда- то сержантов. Кто ему хотел угодить, тот спешил выспросить, что Белову в этот раз приснилось. Белов, который не мог уже думать ни о чем другом, как только о самом себе, не чувствуя издевки в угодливости, принимался громоздить очередной сон, будто из бревен. Снилось ему, что он летал и падал. Снился цирк. Снилась жратва, которая бывает в ресторанах. Для тех из братвы, с которыми хотел ладить, он устраивал по старинке сеансы, тогда-то и оживляясь, разжигаясь сам похотью.
Шура Белов отслужил в охране Каргалинского лагеря все два года и списывался, никому ненужный, покидая безвозвратно это степное диковатое местечко, которое и ему ничем не оставалось дорого. Что с ним будет в другой жизни, спохватываясь, он не знал, будто и возвращался в никуда. Кроить и шить пробовал он, готовя парадный мундир к отъезду, но обнаружил со злостью, что руки дрожат, совсем как у алкаша, и отказываются слушаться, так что даже нитка с трудом вдевалась в иголку.
У меня с ним был общий плацкартный билет от Караганды до Москвы. Мы с ним были земляками, других московского разлива и не было в роте. Пластаясь вторые сутки на верхней полке плацкарты, где-то посреди русской той равнины изнемогнув и изнежившись душой, и поведал он боязливо, что вот уж месяц как снится ему один и тот же сон.
Еще когда Белов доходил и его заставали спящим на вышке, что было проступком серьезней некуда, ротный капитан Оразгалиев и со злости, и чтобы взбодрить, наказывал его так, что посылал драить парашу. Параша в помещении караула была чугунная и скоблил ее Белов кирпичом, будто наждаком, имея приказ начистить до блеска. Так вот снилось ему, что парашу и скоблит. И к нему заглядывает нездешний, добрый какой-то Оразгалиев, и говорит, что все уж блестит, уговаривая кончать работу... "И чего, все же хорошо кончилось", - тогда и не выдержал я, обрывая заунывный рассказ Белова. Тот затих и лежал какую-то минутку безмолвно, недвижно, будто спрятавшись у себя на верхотуре, но досказал в стык усыпляющему колесному перестуку: " А я все скребу и скребу... Скребу и скребу..."
Земляная душа
Газеты в степную роту завозили, как картошку, - на месяц, чтобы не тратиться зря на горючее и не баловать. Завозили прошлогодние, из расстроенной полковой читальни, и, может, потому ознакомление с ними оставляло в душах солдат мутноватый осадок, как если бы опрокинули по чарке свекольной сивухи и сказали: едрит твою мать.
О том, что происходило в прошлом, ребятушки долго не знали. И бывало, что постаревшие газеты выдавливали слезу, если печаталось о чем-то большом и важном, свершившемся само собой, без солдатского ведома, а где четкая политическая оценка событиям отсутствовала, случался мордобой. Ничего не ждал от жизни один политрук Хабаров. Он при ознакомлении если и подсаживался в круг, то украдкой вливал свою личную застарелую тоску в общественную, как считалось, по международному положению, которое год за годом ухудшалось у всех на глазах. Политрук даже не заглядывал в газеты. Эти запоздалые новости ему месяцем- двумя раньше сообщали по телефону дружки из полка. Сообщали, можно сказать, из былого уважения, но Хабаров и тогда в далекую брехливую их речь не вслушивался, тосковал. Все заслужившемуся политруку было известно заранее, будто провидцу. "Как жили, так и будем жить", - говорил он устало по приезде полковой машины и сетовал лишь на то, что поскупились картошки послать. "Ну, этого запаса нам чтоб не сдохнуть хватит, а на что будем до весны жить?"
По прошествии времени солдаты убеждались в правоте его слов: в роте все оставалось как есть, даже простыней не меняли, а скоро пропадал и запас картошки. Дело с продовольствием обстояло на степном дальнике так, то есть вот как... Летом жрали увешанную под обрез пайку, чтобы скопить хоть чего-то на зиму, а также осенью откладывали про запас. Нагрянет же январь, тех запасов хватит только воробья прокормить, так что и неизвестно, ради чего приходилось голодать. За что такая тошная строгая жизнь происходит, будто совестью отмеренная, никто не знал. События, преображавшие все в мире, до степных мест не дохаживали, плутались. Потому сама дорога от затерянного поселенья до Караганды, полковой столицы, казалась служивым длиннее жизни. И хотя каждый месяц наезжал по ней в поселок грузовик из полка, солдаты обступали живого, разомлевшего от тряски водилу будто пришельца.
Хабаров на него не глядел. Разговор у них всегда выходил коротким. Не много дел было в этой лагерной глуши у водителя - как разгрузится, так и видали его, залетного! А картошку все же гнилую привозил. Бывало, что политрук приказывал отогнать грузовик поглубже в степь, где гнилье вываливали из мешков - на пайку недельную наскребут, а остальное бросают. "Так всех снабжают... - вздыхал Хабаров. - Огородец бы свой завести, тогда существенно полегчает". И с каждым подвозом политрук припасал здоровые клубни. И скопил их премного для посадки, хотя земледелец из него был неважный. Он растить не умел картошку и робел перед землей, но вот отдал сам себе приказ: "Я - политрук, а это самая боеспособная единица. Я умею стрелять, колоть и не должен сдаваться без боя, потому что мне мало осталось на земле жить, я уже пятьдесят лет потратил."
Мухи, змеи, птицы и другие звери, пропавшие кто осенью, кто зимой, в поселке тогда еще не появлялись. И было ранней весной грустно жить, так как из живых на поверку только люди да вши оставались. На солдатах и зеках вши ходили друг к дружке в гости, братались, а те горемыки, страдая от чесотки с зудом, нещадно давили на себе празднующих гадов и материли сообща судьбу. На одном таком рассвете Хабаров поднял в казарме боевую тревогу, по пьяному своему вдохновенью. Приказал вооружаться саперными лопатами и бежать на слякотный клочок земли, который был охвачен бескрайней степью, будто смятеньем.
Задыхаясь, солдаты шептали: "Куда нас гонят?" А политрук принялся размахивать руками, будто на поле боя распоряжался. С растерянной оглядкой солдатня нападала на распростертую землю, потом окапывалась, как это приказывал Хабаров. "Что роем?" - шептались в холодной грязи. Пьяный политрук бегал вдоль копошащихся цепей, потрясая над головами пистолетом, если рытье самовольно прекращалось, и подбадривал: "Налегай на лопаты, сынки, скорей перекур будет!" Перекопанной земли становилось все больше. Он обмерял ее долговязыми шагами, точно ходулями, а когда выбился из сил, приказал всем выстроиться на краю свежевырытого поля. Перед замершим строем выволокли мешки скопленной в глубокой тайне картошки. Хабаров приказал проходить гуськом, чтобы каждый, поравнявшись с мешками, протягивал перевернутую, вроде котелка, армейскую каску. В каску политрук накладывал картофельных клубней, приказывая зарывать их в землю. "Перепился, сука... Братва, гляди, наши кровные пайки зарывает". Хабаров душил эти злые шепотки своим раскаленным от отчаянья криком: "Молчать! Мы не пайки - мы будущее наше в землю посадили. Через полгода пюре ведрами будем жрать - из одной картошины килограмм, а то и больше получится. Она вырастет сама в этом поле, на нее даже не надо затрат труда".
И выросла... Хабаров с зацветшей картошки ходил рвать цветы. Он расставлял их в кружках по всей казарме, будто долгожданные весточки из земли, а их брали втихую на зубок - и плевались, обсуждая между собой: "А запах есть?" "Нету, как вода. Пожуешь - кислятина."
С исходом солнечных праздников и летнего цветения землю не оставляли дожди. Она обуглилась и потяжелела, будто залитый пожар. Птицы в такую погоду боялись летать и расхаживали по сырой земле с опущенными головами. Хабаров безнадежно запутался. Он накарябал карту картофельного поля, таскал за собой в планшетке и раздумывал, как добыть урожай. Может, мысли являлись ничтожные, от бессилья политрук и самодеятельную эту карту в клочья разорвал. Случилось это в ротной канцелярии ночной порой. Электричество светило скупо, точно его разбавляли водой. Темно было. Прохаживались по полу без страха перед Хабаровым мыши и рылись в казенных сводках, взбираясь на заваленный инструкциями да приказами стол. Политрук в Бога никогда не верил, но тогда встал на колени посреди канцелярии. Позвал его громко. И не молился, не бил поклонов, а выпрямившись как честный служака на смотру, доложил для начала про службу, а там и про всю страну, которая испытает нужду в картошке. И попросил, помолчав и переведя дыхание: "Товарищ бог, если вы на самом деле есть, тогда помогите, если так возможно, собрать моей роте побольше картошки. А я за это в вас верить стану". Встав с колен, он подошел к столу. Прогнал мышей и налил себе водки в два стакана, чтоб было не так одиноко. Опрокинул свой. И, не притронувшись к другому, занюхал духом писарским, попавшейся под руку отчетностью. А приметив в оконце колыхание зари, пошагал в казарму будить солдат.