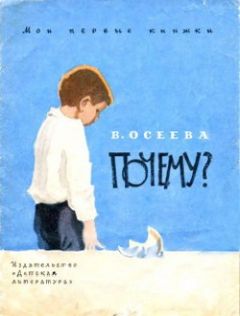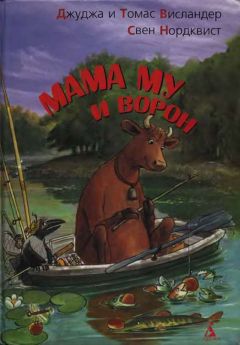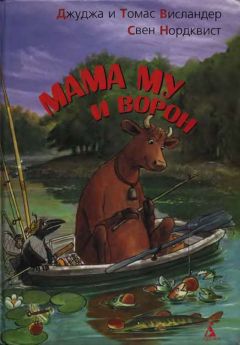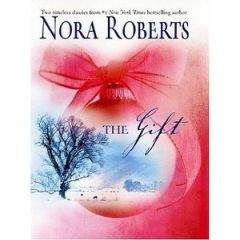в его скорби по Маме, и по своей жизни, и по своей тоске и одиночеству?..
– Выбирать надо то, что не продается, доча. Я никогда не… пользовался… хм… но всегда все было нормально. Женщина должна нормально пахнуть. Ты бы бросила курить, доча. Ее должно хотеться облизывать. Человека, с которым ты будешь жить, тебе должно хотеться облизать. Женщина вообще должна пахнуть молоком и медом.
Я смутно поняла, что папа изменял Маме и сейчас мне об этом рассказывает. Но паршивее мне от этого не становилось. Мне было уже никак. Никак. Моя жизнь превратилась в ад, а потом снова и снова в ад, как будто до этого она не была адом.
Иногда папа брал гитару. И весь вечер и часть ночи пел мне песни… “Виноградную косточку в темную землю зарою… Царь Небесный пошлет мне прощенье за прегрешенья… А иначе зачем на земле этой вечной живу”…
Это был так тепло и так по-родному. Я радовалась, что у меняя есть папа и что он со мной.
Иногда по вечерам он ставил песни. Неизвестных мне бардов. Давнопрошедших восьмидесятых. Оживал Александр Сергеевич, который не проедет больше на бричке, вальсы осенних листьев и тягучее советское время. Представление о мире как о безопасном месте, где у тебя ничего нет и где ты не умел ценить то, что у тебя было. Потому что потом это отобрали. Когда ты не мог реализоваться, и поэтому пел такие тоскливые светлые песни. По крайней мере, быть сметенным с дороги и смешанным с пылью ты тоже быть не мог. Но ты не знал об этом.
Я не любила слушать больше пяти песен за вечер, но иногда уступала папе. Меня вообще не радовали шумы и музыка в этом доме. И вообще не радовали. И все-таки это был папа… Мой папа… который теперь был через вечер мил и очень добр.
Это был ад, который я сносила, как будто моя душа была прахом, чем-то неважным, что не надо беречь. И в то же время как будто моя душа не умрет никогда и поэтому ее можно бить. И издеваться – все равно, мол, ничего не случиться.
Я ничего не могла сделать.
Попросить папу уехать – не могла. Стеснялась.
Уехать самой значило отдать квартиру и Маму– на растерзание. Я в своем доме чувствовала связь с Мамой, хоть это больно. Связь с Ее вещами. Я даже не думала тогда, что можно уехать. Слов папа не понимал. Это была пытка, выжигающая меня до конца. Папа, папа…
Со временем я стала поздно приходить домой и за это меня тоже мучила совесть. Папа был дома, живой папа, а я не была рядом с ним, не общалась с ним, пытаясь сбежать от него. В улицы, кино и людей, которых не воспринимала. Это был ад.
Мы снова встретились с Антоном. Антон был во многом хорош, в чем-то – очень хорош, но он не подпускал никого близко и сам близко не подходил. Складывались отношения кричания в колодец – можно было рассказать ему все, но это глухо прозвенело бы эхом и смолкло, и я бы не получила никакого личного ответа – я много раз пробовала.
Поэтому я просто радовалась его близости, тому, что я не одна, отвлекалась. Иногда он меня смешил. Вместе с Белкой мы втроем сходили в кино. Я прочитала им мой стих. Белка сказала, что он очень искренний и точный – ни одного слова не заменишь другим. Они не знали. Я уходила домой. Мы ели суши с Антоном. Я пыталась шутить, заигрывала с ним, ела карандаши, пила при нем иногда бутылочку пива или коктейля. Я общалась с ним как будто через глухую занавесь, но он сам был такой по жизни и поэтому не замечал. Он мне очень был нужен тогда. И он помогал мне. Он был моей связью с миром. Человеком, который заставлял меня помнить, что я часть мира, который меня окружает. Человеком, который заставлял меня выходить на улицу. И говорить. И реагировать. Не сидеть все время дома. Отвлекаться. Думать о другом. Смеяться. Но вскоре мне стало тягостно делать вид, что все в порядке. Даже если он не знал, что мама умерла, из-за инвалидного кресла он все равно знал, что кому-то в моей семье очень-очень плохо. У него со съемок как раз было инвалидное кресло. Я попросила его, когда мы поняли, что мама не встанет, и с ней придется гулять в инвалидном кресле. О, если бы это было правдой!.. Я плакала тихоньку, так, чтобы мама не слышала, когда мне сказали взять у Антона кресло. Я представляла себе прохладный апрель – и мы с мамой в кресле ходим вокруг морозовской… Не случилось… Даже такого страшного сценария не случилось, даже такой версии жизни меня лишили… И Антон знал, что есть трагедия. Но не заговаривал о ней. Кроме предложения быть вместе он ничем не проявлял свое участие. Да, он был внимательным, но он всегда был таким. Я не хочу сказать, что Антон мало мне помогал. Я хочу сказать, что мне становилось очень тяжело. Меньше всего я хотела лицемерить. Мне хотелось… Мне ничего не хотелось – забиться под свое одеяло, заснуть – на год, на пару лет, на всю жизнь. Да – заснуть на всю жизнь было моим самым большим желанием.
– Антон! Мне надо сказать тебе… что, в общем, мне нужно побыть одной. Я… спасибо тебе…, – сказала я ему, когда мы сидели на подоконнике у меня на лестничной клетке.
– Можешь не продолжать. Я понял.
– Прости.
– Но почему? Я же нужен тебе. Ты можешь ничего не делать. Я тебя не заставляю и никуда не тороплю. Ты можешь просто звонить мне и мы будем гулять – или есть суши – или что хочешь – я не буду ни на чем настаивать.
Это было очень великодушно с его стороны.
– Спасибо, Антон. Я… пос.. под… как-нибудь.
– Почему?
– Ну…
– Почему?
– Потому что ты не хранишь меня. Мне нужно, чтоб меня обняли, мне нужно побыть в спокойствии, мне нужен кто-то, кто бы меня защитил. А с тобой странно. Только не бери не свой счет, ладно?
– Я тебя защищу. Я всегда рядом.
– Я ценю. Нет, Антон. Я… – пыталась ему объяснить, как трудно полагаться на человека, который боится тебя спросить. Я могла бы рассказать ему все сама, но мне не хотелось говорить об этом. Если он знал – он мог бы сказать сам. Я могла бы спросить, но как сформулировать вопрос? А если и задавать его, потом все равно начался бы разговор, которого я не хотела.