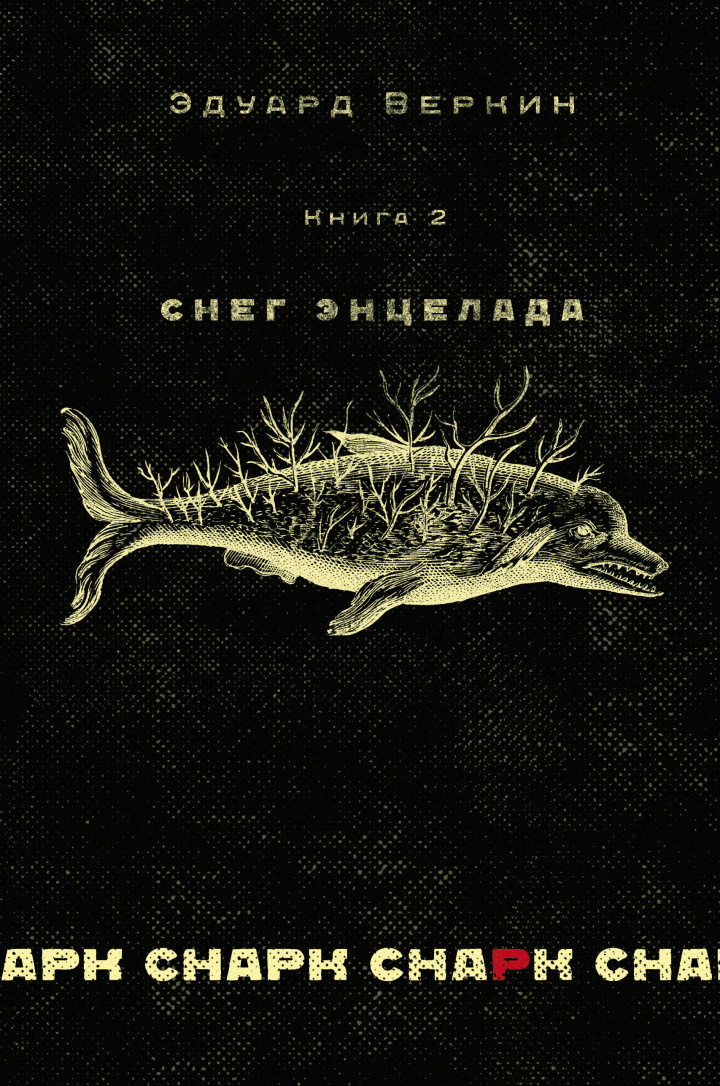холодными нитями.
Впрочем, может, мне это снилось.
— Ты был хорошим, — сказала Снаткина.
Я был хорошим.
— Ты был хорошим, добрым мальчиком, — сказала Снаткина. — Я помню.
Снаткина ушла.
Я слез на пол, отдышался, заглянул под койку, достал из-под нее жвачку Романа и завернул ее в сторублевку.
Я был честным и добрым мальчиком, но с годами стал сволочью и дерьмом.
— …Двенадцать человек пропали без вести в подземном кошмаре! Группа спелеологов-любителей не вышла на связь после погружения в Верхне-Вознесенские катакомбы. Связь отсутствует два дня, готовится спасательная экспедиция с участием дронов…
Я проснулся.
Чагинск, восемь тысяч сто сорок семь жителей, не считая маркшейдеров.
— …Новая экранизация произведения Горького обещает стать событием телевизионного сезона. Римейк сериала восемьдесят седьмого года раскроет и углубит все сюжетные линии романа…
Телевизор откровенно орал, у Снаткиной плохо со слухом, надо купить ей наушники.
Попробовал размяться и помахать руками, присесть пару раз, но тут же почувствовал глубокое отвращение к физкультуре. Надо взять себя в руки, умыться, спуститься во двор, что-то сделать…
Надо хоть что-то сделать.
Вышел в коридор.
Роман отсутствовал. Койка аккуратно заправлена, вообще в его комнате все аккуратно и пахнет апельсинами. Или лаймом. Свежим цитрусом, скорее всего, туалетная вода. Опять отправился к Аглае. Натерся коркой лайма и совершает куртуазный натиск. Надо и мне сходить к Аглае, а то Рома меня окончательно обставит. А Аглая… Я, конечно, писатель, у меня фирма, консалт, поэст Уланов, все дела… Но Рома моложе. Ненамного, но… В текущем возрасте каждый год на счету.
Снаткина тоже отсутствовала. Телевизор работал слишком громко, но самостоятельно, от звука дрожали глаза и стекла. Впрочем, глаза могли болеть и от недосыпания. Или грибок. Я представил, как Снаткина бредет по городу, держась за велосипед, безумная, бредет без особой цели, чтобы только солнце не светило в глаза, надо подарить ей зеленые очки.
Спустился во двор, достал воды из колодца, хотел умыться, но не получилось — в ведре бешеными топориками кружились личинки комаров. Я опрокинул ведро и отправился на колонку. Надавил на рычаг.
Трубы долго тряслись и свистели, но воды так и не дали, я попинал колонку, подергал рычаг, бесполезно.
Посмотрел на улицу Кирова. Никого. Моя печальная «восьмерка», она выглядела так, словно стоит здесь год, пылью покрылась и осенними листьями.
Я вернулся в свою комнату, поставил ноутбук на подоконник, открыл материал Романа. Читать не смог, мозг не шевелился. Или Роман писал так, что я не мог понять, о чем он пишет. То есть не о чем пишет, а что хочет сказать. Шрот. Логорея. Если бы я показал эту окрошку Аглае, она бы сразу все поняла… Насчет того, кого именно заслуженно высекли в Тайной экспедиции.
Появился Роман. Я давно заметил — стоит начать думать о Романе или читать его роман, как сам Большаков появляется, словно поджидает мою мысль, чтобы немедленно ее воплотить; в сущности, мысли читать легко, все люди думают одинаково и об одном, когда я вижу Романа, я знаю, что он хочет, человек есть набор ситуаций и рефлексов на эти ситуации. А когда я вижу Аглаю, то она…
— Кривой ты, Витя, — сказал Роман. — Радон?
— Где гулял? — не ответил я.
— До магазина. Хотел за печеньем, а денег снять не получилось, терминал отключен… И карточки не работают. Ну и к Аглае забежал.
— И что Аглая?
Забежал он, легкоа́тлет, танцор диско хренов…
— Дома не застал, она на работе с утра. С Надеждой Денисовной поговорил. Но я не про это…
— Что она сказала?
— Кто?
— Надежда Денисовна.
Роман не ответил. Он уселся в мою койку, вытянул ноги в кедах, в этом мире есть незыблемые константы. Я остался у окна.
— Иногда мне кажется, что это все…
Роман покрутил пальцем над головой.
— Это все декорация…
Мог бы быть оригинальнее, трюизмы с утра невыносимы, а еще вчера говорил, что я повторяюсь…
— Это ты к чему? — спросил я.
— К тому, что иногда кажется… что мы находимся в… искривленном пространстве.
Это радон. Радон чучелизирует, мертвецы в радоновых могилах не разлагаются десятилетиями и десятилетиями продолжают источать некротические эманации, примерно так.
— Ничего удивительного, ты же музыкант, — сказал я.
— А это при чем?
— У музыкантов обостренное восприятие, вот ты и воспринимаешь.
— Что я воспринимаю?
Роман покосился на ноутбук, стоящий на подоконнике.
— Это называется по-разному, — ответил я. — Эффект зловещей долины. Невыносимая легкость бытия. Мерцание матрицы. Великое молчание. Острое ощущение иллюзорности происходящего, момент, когда привычный абсурд… Мы это обсуждали много раз.
Повторение — мать чучелизации. Или отец. Повторение и радон, осень, в окно на «восьмерку» открывался осенний вид.
— «Растебяка», — сказал я. — «Легчатор», «Частная клиника «Стикс», «Мотоплуг и дрель», похороны Хазина, бог Кузя и одноименный носочный питон, смерть хорька Фантика, мшистые яги, смерть в скудельне ледяной, рано или поздно ты привыкаешь к этому настолько, что перестаешь замечать. И именно тогда тебе становится страшно. Так, Роман? Тебе страшно?
«Восьмерка» абсолютно сливалась с Чагинском, подтверждая свое подлинное предназначение, Роман не ответил.
— Наше путешествие было абсурдно изначально, — пояснил я. — Расследование исчезновения двадцатилетней давности — это сюжет дешевого скандинавского триллера. Тем не менее мы стали играть по этим правилам и втянулись в эту игру… Втянулись в этот…
— Я вспомнил, — сказал Роман.
— Что?
— У кого я видел зажигалку.
Город Чагинск. Город Чагинск не имеет даты основания.
— В тот день, — уточнил на всякий случай Роман.
Я понял в какой.
— Странное дело, — сказал он. — Я сегодня проснулся… Утро было солнечное такое… и я совершенно ясно вспомнил. Я видел эту зажигалку в руках у Хазина.
Хазин.
— Это точно? Если по десятибалльной шкале?
— Семь, — ответил Роман. — Сам понимаешь, я тогда… сильно выпил.
Еще бы.
— У меня тогда все перед глазами крутилось… плыло. А сегодня вспомнил — Хазин. Он от этой зажигалки предлагал прикурить… Механошину, Светлову… и врио. Точно, врио.
Про врио, кажется, не знает. Или делает вид, что не знает. Если знает, а я не расскажу, станет думать, что я ему не доверяю. Хазин.
— Ты уверен? — снова спросил я.
— Ну как уверен, сколько лет прошло…
— То есть не уверен.
Хазин. Я пытался вспомнить, видел ли у него зажигалку.
— Если это Хазин, то все бессмысленно, — сказал я. — Наша поездка, наша книга…
— Почему бессмысленно? — спросил Роман.
— Потому что Хазин мертв. И спросить с него ничего нельзя.
Роман думал, разглядывая кеды. А я не помнил зажигалки у Хазина.
— Но можно спросить с врио, — сказал Роман. — Хазин работал