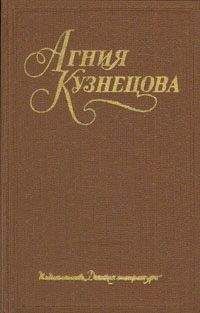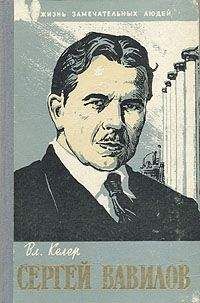А с прилегавших к Волге улиц слышался треск автоматов, разрывы мин, пулемётные очереди, но к ним не прислушивались.
На балконе четырёхэтажного здания, обращённого к Волге, стоял унтер-офицер-наблюдатель в маскировочном балахоне, расцвеченном жёлтыми, коричневыми и зелёными овалами, с вуалью, украшенной мохнатыми лоскутками, и кричал картаво и повелительно в трубку: «Feuer!.. Feuer!.. Feuer!..» [Огонь!.. Огонь!.. Огонь!.. ], взмахивал рукой — и из-под деревьев на бульваре оглушительно послушно рычали пушки и из чёрных жерл молниеносно, как из змеиной пасти, выбрасывало жёлтые и белые раздвоенные языки.
— Быстро проехал бронированный штабной автомобиль, сделал разворот среди площади и остановился: худой генерал с жёлтыми крагами на кривых ногах, с горбатым носом, с лицом, пересечённым несколькими шрамами, вышел из автомобиля и, поблескивая стеклом монокля, оглядел небо, площадь, дома, нетерпеливо указывая рукой в перчатке, сказал: несколько слов подбежавшему офицеру и, снова сев в машину, уехал в сторону вокзала.
Вот таким и должен был быть последний день войны — таким он представлялся, и таким он пришёл.
Казалось, мерцающий жаркий туман стоял не в небе, а в раскалённых головах. Запах гари, прокалённого камня, жилья, мягкого асфальта опьянял после долгих недель, проведённых в степи.
Волга, столько раз виденная на карте бесплотной голубой жилой, сейчас живая и подвижная плескала о каменную набережную, шуршала, колыхала на себе плоты, понтоны, брёвна, лодки. И все поняли: вот она — победа!
А там, где края вбитого Паулюсом в центре Сталинграда клина граничили с районом, ещё не очищенным от советских войск, все ещё продолжалась война — там пока не думали о трофеях. Танки били прямой наводкой по подворотням и окнам, расчёты, пригибаясь, тащили пулемёты к развалинам на волжском обрыве, ракетчики сигналили цветными ракетами, автоматчики пускали очередь за очередью в тёмные подвалы, по краям оврагов ползли снайперы, двухфюзеляжные самолеты корректировщики висели в воздухе, и картавый вопль наблюдателей, шедший к командирам немецких дивизионов и батарей, многоэтажным эхом врывался в уши сидевших в Заволжье на приёме советских радистов: «Feuer!.. Feuer!.. Gut!.. Sher gut!..» [Огонь: Огонь: Хорошо: Очень хорошо!]
Командир пехотного гренадерского батальона гауптман Прейфи разместил свой штаб в нижнем этаже уцелевшего двухэтажного дома.
С востока штаб был прикрыт массивным остовом полуразрушенного строения, и Прейфи рассчитал, что, вздумай русские вести артиллерийский огонь из-за Волги, штаб окажется защищённым от прямого попадания снарядов.
Батальон первым вошёл в город, и рота лейтенанта Баха в ночь на одиннадцатое, двигаясь по руслу реки Царицы, достигла набережной Волги. Бах донёс, что боевое охранение роты закрепилось у самой воды, держит под огнём крупнокалиберных пулемётов дорогу на левом берегу Волги.
Не первый раз входил гренадерский батальон в завоёванный город, и солдаты привыкли к тому, что улицы, по которым они ступают, пустынны, что под сапогами скрипит битый кирпич и осколки стёкол, что ноздри ловят горячий запах гари, что при виде первого серо-зелёного пехотного мундира жители столбенеют.
Ведь они всегда были первыми немцами, которых видели русские. И им казалось, что в них самих жил пафос завоевательской силы, повергавший в развалины дома и железные мосты, вызывавший ужас в глазах женщин и детей.
Так было по всему пути гренадеров моторизованной дивизии.
И всё же приход в Сталинград был особым, отличным от других приходов. Перед атакой в полк приезжал заместитель командира корпуса, беседовал с офицерами и солдатами, а представитель отдела пропаганды производил киносъемку и раздавал обращение. Известный армии журналист, корреспондент «Фолькишер Беобахтер», деливший с войсками всю тяжесть восточного похода, знаток солдатской жизни, взял интервью у трёх старых участников русской кампании. Прощаясь с ними, он сказал:
— Дорогие друзья, завтра я буду свидетелем, а вы участниками решающей битвы с Россией, войти в этот город, значит кончить войну. За Волгой кончается Россия, там мы не — встретим сопротивления.
Газеты, привозимые на самолётах из далёкой Германии, и свои, армейские, выходили в эти дни с огромными шапками:
«Der Fuhrer hat gesagt:Stalingrad muss fallen! [Фюрер сказал: «Сталинград должен пасть!»]. Жирным шрифтом газеты печатали цифры колоссальных потерь Советов, перечисляли трофеи: живая сила, танки, пушки, захваченные на аэродромах самолеты.
В уме солдат и офицеров, в сознании армии сложилось убеждение, что пришёл решающий день войны. Правда, такое убеждение рождалось уже не раз, но теперь стало очевидно, что ложность того прошлого убеждения подтверждала истинность этого, нынешнего.
— После Сталинграда можно ехать домой, — говорили все. Передавались слухи, что верховное командование наметило дивизии, которые после войны останутся в оккупационной армии.
Когда Бах сказал: своему командиру батальона, что ведь не заняты ещё колоссальные пространства, держится ещё Москва, есть Урал, Сибирь, есть запасные советские армии, Прейфи ответил:
— Всё это чепуха. Если мы возьмём Сталинград, неразбитые армии побегут и рассыпятся, а Англия и Америка немедленно заключат с нами мир. Мы поедем домой, а здесь останутся лишь части для несения гарнизонной службы и борьбы с партизанами. Важно не попасть в такую часть, а то мы скиснем в каком-нибудь вонючем русском городке.
Ночью Бах подполз к Волге и зачерпнул каской воды. На рассвете, когда позиции были закреплены и стрельба утихла, он принёс эту воду в штаб батальона и угостил ею гауптмана Прейфи.
— Знаете, — сказал: Прейфи, — так как вода сырая и в ней могут заключаться микробы азиатской холеры, мы смешаем её со сталинградским спиртом. — Он подмигнул и добавил: — Поменьше воды и побольше спирта.
Они так и сделали, чокнулись, выпили, и Бах, подняв руку, сказал:
— Вот что: пять минут тишины, пусть каждый напишет сейчас же коротенькую открытку домой, все мы пили волжскую воду.
— Это правильная, настоящая немецкая мысль, — сказал: Прейфи.
Бах написал невесте о том, как южные звёзды стояли над чёрной рекой, и что влажное дыхание Волги казалось ему дыханием истории.
Капитан Прейфи написал, что, поднимая кружку волжской воды, он уже видел себя в кругу семьи, уже чуял запах парного молока, которое принесёт ему жена в ясное весеннее утро, какое счастье думать о своих милых в эти великие дни.
Начальник штаба Руммер, считавший себя глубоким стратегом, написал старику отцу о грандиозном прорыве на восток, в Персию, Индию, о соединении с японцами, идущими из Бирмы и Индо-Китая, о стальном поясе, который закует на десять веков земной шар.
«Пал последний рубеж, — писал он, — я поднял тост за встречу с союзниками».
А Фриц Ленард, обер-лейтенант с нежным, молодым лицом, с маленьким розовым ртом, высоким белым лбом и немигающими голубыми глазами, командир роты, коллега Баха, никому не писал, он, усмехаясь, ходил по комнате среди собранных хозяйственным Прейфи трофеев, встряхивал кудрями и бормотал вполголоса стихи Шиллера.
Этого Ленарда побаивался сам Прейфи, картавый гигант с громким голосом и могучей хозяйственной энергией.
Ленард до войны был пропагандистом, затем он служил в звании штурмфюрера в войсках СС, а когда началась война с Россией, его перевели в штаб моторизованной дивизии.
Шепотом передавали, что по его доносу арестовали двух офицеров майора Шиммеля он обвинил в сокрытии еврейской крови со стороны отца, а о другом, Гофмане, Ленард якобы раскопал длинную историю о тайных связях с интернационалистами, заключёнными в лагере; оказалось, Гофман не только переписывался с ними, но и ухитряйся с помощью родных, живущих в Дрездене, пересылать им из армии деньги и вещевые посылки. Однажды Ленард, по-видимому, забыл, что находится в армии и недостаточно вежливо ответил: командиру дивизии Веллеру. Генерал откомандировал его в роту. На передовых Ленард держался хорошо, получил несколько благодарностей от командира полка, был представлен к железному кресту.
Офицеры полка знали, что Ленард дважды участвовал со своей ротой в акции раз при сожжении партизанского села на Десне, второй раз при массовом уничтожении пяти тысяч евреев в местечке на Украине.
В полку и в батальоне офицеры не любили Ленарда, но всё же многие искали его дружбы, даже и те, кто был старше его чином, должностью, годами.
Бах чуждался Ленарда, хотя тот был, видимо, умнее других офицеров в батальоне. С командиром батальона Прейфи, охваченным хозяйственным пылом, нельзя было говорить о предметах, не имевших прямого отношения к вещевым и продовольственным посылкам. Всякий разговор он сводил к тому, что следует руководствоваться комбинированным методом при организации посылок. Вначале он считал, что надо домой посылать полотно и шерсть, потом он решил посылать продовольствие: натуральный кофе, мед, топлёное масло. Лишь перейдя Северный Донец, он осознал, что многообразные потребности семьи следует удовлетворять гармонично, комплексно.