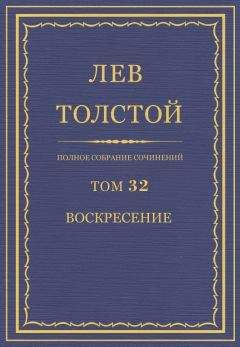Пройдя раза два взад и вперед за углом дома и попав несколько paз ногою в лужу, Нехлюдов опять подошел к окну девичьей. Лампа всё еще горела, и Катюша опять сидела одна у стола, как будто была в нерешительности. Только что он подошел к окну, она взглянула в него. Он стукнул. И, не рассматривая, кто стукнул, она тотчас же выбежала из девичьей, и он слышал, как отлипла и потом скрипнула выходная дверь. Он ждал ее уже у сеней и тотчас же молча обнял ее. Она прижалась к нему, подняла голову и губами встретила его поцелуй. Они стояли за углом сеней на стаявшем сухом месте, и он весь был полон мучительным, неудовлетворенным желанием. Вдруг опять так же чмокнула и с тем же скрипом скрипнула выходная дверь, и послышался сердитый голос Матрены Павловны:
— Катюша!
Она вырвалась от него и вернулась в девичью. Он слышал, как захлопнулся крючок. Вслед за этим всё затихло, красный глаз в окне исчез, остался один туман и возня на реке.
Нехлюдов подошел к окну, — никого не видно было. Он постучал, — ничто не ответило ему. Нехлюдов вернулся в дом с парадного крыльца, но не заснул. Он снял сапоги и босиком пошел по коридору к ее двери, рядом с комнатой Матрены Павловны. Сначала он слышал, как спокойно храпела Матрена Павловна, и он хотел уже войти, как вдруг она стала кашлять и повернулась на скрипучей постели. Он замер и простоял так минут пять. Когда опять всё затихло, и послышался опять спокойный храп, он, стараясь ступать на половицы, которые не скрипели, пошел дальше и подошел к самой ее двери. Ничего не слышно было. Она, очевидно, не спала, потому что не слышно было ее дыханья. Но как только он прошептал: «Катюша!» — она вскочила, подошла к двери и сердито, как ему показалось, стала уговаривать его уйти.
— На что похоже? Ну, можно ли? Услышат тетеньки, — говорили ее уста, а всё существо говорило: «я вся твоя».
И это только понимал Нехлюдов.
— Ну, на минутку отвори. Умоляю тебя, — говорил он бессмысленные слова.
Она затихла, потом он услышал шорох руки, ищущей крючок. Крючок щелкнул, и он проник в отворенную дверь.
Он схватил ее, как она была в жесткой суровой рубашке с обнаженными руками, поднял ее и понес.
— Ах! Что вы? — шептала она.
Но он не обращал внимания на ее слова, неся ее к себе.
— Ах, не надо, пустите, — говорила она, а сама прижималась к нему
………………………………………………………………………………………………………………………………
Когда она, дрожащая и молчаливая, ничего не отвечая на его слова, ушла от него, он вышел на крыльцо и остановился, стараясь сообразить значение всего того, что произошло.
На дворе было светлее; внизу на реке треск и звон и сопенье льдин еще усилились, и к прежним звукам прибавилось журчанье. Туман же стал садиться вниз, и из-за стены тумана выплыл ущербный месяц, мрачно освещая что-то черное и страшное.
«Что же это: большое счастье или большое несчастье случилось со мной?» спрашивал он себя. «Всегда так, все так», сказал он себе и пошел спать.
На другой день блестящий, веселый Шенбок заехал за Нехлюдовым к тетушкам и совершенно прельстил их своей элегантностью, любезностью, веселостью, щедростью и любовью к Дмитрию. Щедрость его хотя и очень понравилась тетушкам, но привела их даже в некоторое недоумение своей преувеличенностью. Пришедшим слепым нищим он дал рубль, на чай людям он роздал 15 рублей, и когда Сюзетка, болонка Софьи Ивановны, при нем ободрала себе в кровь ногу, то он, вызвавшись сделать ей перевязку, ни минуты не задумавшись, разорвал свой батистовый с каемочками платок (Софья Ивановна знала, что такие платки стоят не меньше 15 рублей дюжина) и сделал из него бинты для Сюзетки. Тетушки не видали еще таких и не знали, что у этого Шенбока было 200 тысяч долгу, которые — он знал — никогда не заплатятся, и что поэтому 25 рублей меньше или больше не составляли для него расчета.
Шенбок пробыл только один день и в следующую ночь уехал вместе с Нехлюдовым. Они не могли дольше оставаться, так как был уже последний срок для явки в полк.
В душе Нехлюдова в этот последний проведенный у тетушек день, когда свежо было воспоминание ночи, поднимались и боролись между собой два чувства: одно — жгучие, чувственные воспоминания животной любви, хотя и далеко не давшей того, что она обещала, и некоторого самодовольства достигнутой цели; другое — сознание того, что им сделано что-то очень дурное, и что это дурное нужно поправить, и поправить не для нее, а для себя.
В том состоянии сумасшествия эгоизма, в котором он находился, Нехлюдов думал только о себе — о том, осудят ли его и насколько, если узнают, о том, как он с ней поступил, a не о том, что она испытывает и что с ней будет.
Он думал, как Шенбок догадывается об его отношениях с Катюшей, и это льстило его самолюбию.
— То-то ты так вдруг полюбил тетушек, — сказал ему Шенбок, увидав Катюшу, — что неделю живешь у них. Это и я на твоем месте не уехал бы. Прелесть!
Он думал еще и о том, что, хотя и жалко уезжать теперь, не насладившись вполне любовью с нею, необходимость отъезда выгодна тем, что сразу разрывает отношения, которые трудно бы было поддерживать. Думал он еще о том, что надо дать ей денег, не для нее, не потому, что ей эти деньги могут быть нужны, а потому, что так всегда делают, и его бы считали нечестным человеком, если бы он, воспользовавшись ею, не заплатил бы за это. Он и дал ей эти деньги, — столько, сколько считал приличным по своему и ее положению.
В день отъезда, после обеда, он выждал ее в сенях. Она вспыхнула, увидав его, и хотела пройти мимо, указывая глазами на открытую дверь в девичью, но он удержал ее.
— Я хотел проститься, — сказал он, комкая в руке конверт с сторублевой бумажкой. — Вот я…
Она догадалась, сморщилась, затрясла головой и оттолкнула его руку.
— Нет, возьми, — пробормотал он и сунул ей конверт за пазуху, и, точно как будто он обжегся, он, морщась и стоная, побежал в свою комнату.
И долго после этого он всё ходил по своей комнате, и корчился, и даже прыгал, и вслух охал, как от физической боли, как только вспоминал эту сцену.
«Но что же делать? Всегда так. Так это было с Шенбоком и гувернанткой, про которую он рассказывал, так это было с дядей Гришей, так это было с отцом, когда он жил в деревне и у него родился от крестьянки тот незаконный сын Митенька, который и теперь еще жив. А если все так делают, то, стало быть, так и надо». Так утешал он себя, но никак не мог утешиться. Воспоминание это жгло его совесть.
В глубине, в самой глубине души он знал, что поступил так скверно, подло, жестоко, что ему, с сознанием этого поступка, нельзя не только самому осуждать кого-нибудь, но смотреть в глаза людям, не говоря уже о том, чтобы считать себя прекрасным, благородным, великодушным молодым человеком, каким он считал себя. А ему нужно было считать себя таким для того, чтобы продолжать бодро и весело жить. А для этого было одно средство: не думать об этом. Так он и сделал.
Та жизнь, в которую он вступал, — новые места, товарищи, война, — помогли этому. И чем больше он жил, тем больше забывал и под конец действительно совсем забыл.
Только один раз, когда после войны, с надеждой увидать ее, он заехал к тетушкам и узнал, что Катюши уже не было, что она скоро после его проезда отошла от них, чтобы родить, что где-то родила и, как слышали тетки, совсем испортилась, — у него защемило сердце. По времени ребенок, которого она родила, мог быть его ребенком, но мог быть и не его. Тетушки говорили, что она испортилась и была развращенная натура, такая же, как и мать. И это суждение тетушек было приятно ему, потому что как будто оправдывало его. Сначала он всё-таки хотел разыскать ее и ребенка, но потом, именно потому, что в глубине души ему было слишком больно и стыдно думать об этом, он не сделал нужных усилий для этого разыскания и еще больше забыл про свой грех и перестал думать о нем.
Но вот теперь эта удивительная случайность напомнила ему всё и требовала от него признания своей бессердечности, жестокости, подлости, давших ему возможность спокойно жить эти десять лет с таким грехом на совести. Но он еще далек был от такого признания и теперь думал только о том, как бы сейчас не узналось всё, и она или ее защитник не рассказали всего и не осрамили бы его перед всеми.
В таком душевном настроении находился Нехлюдов, выйдя из залы суда в комнату присяжных. Он сидел у окна, слушая разговоры, шедшие вокруг него, и не переставая курил.
Веселый купец, очевидно, сочувствовал всей душой времяпрепровождению купца Смелькова.
— Ну, брат, здорово кутил, по-сибирски. Тоже губа не дура, какую девчонку облюбовал.
Старшина высказывал какие-то соображения, что всё дело в экспертизе. Петр Герасимович что-то шутил с приказчиком-евреем, и они о чем-то захохотали. Нехлюдов односложно отвечал на обращенные к нему вопросы и желал только одного — чтобы его оставили в покое.