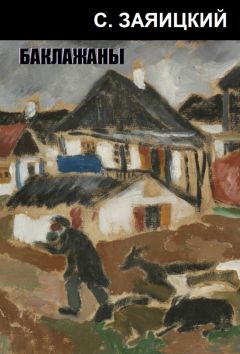Вера, как только привалила, по выражению инженера, «компашка», ушла в комнаты.
— Тише! — крикнул вдруг инженер. — Спокойствия! Спокойствия, милостивые государи и плешивые секретари!
Уж не хохот, а целый пушечный залп покрыл эти слова, девицы тряслись, размахивая грудью и расчесывая икры, кусаемые мухами.
— Петька, не смей! Петька, уморил! — кричала Софья, икнув от хохота.
— Спокойствия! Знаете ли вы, что сегодня в городском саду первый сеанс «Калькутты из девушки», виноват — наоборот?
Девицы вскочили и умчались в сад, чтоб откататься в траве. Сидеть они больше не могли. Екатерина Сергеевна била кулаком по спине подавившуюся Софью. Степан Андреевич тоже смеялся, хотя в душе он злился на всю эту компанию, как он полагал, идиотов.
— Вот я и предлагаю in соrроrе, по-русски — всем телом, пойти на эту Калькутту.
Девицы услыхали предложение. Они в это время поднимались на террасу.
— Ура! — закричали они. — Даешь Калькутту!
И вдруг все замерли, как школьники при появлении строгого директора: Вера стояла в дверях террасы.
— Пойдите и вы, Степа, — сказала она насмешливо, — развлекитесь, не все дома сидеть.
— Меня не приглашают, — произнес он тоже почему-то смущенно.
Но девицы услыхали это и уже висели на инженере, что-то шепча ему.
— Надеюсь, вы не откажетесь пойти с нами? — сказал он, стряхивая девиц.
— Благодарю вас, с удовольствием. А вы, Вера, пойдете?
— Нет, что вы! У меня есть дела поважнее кино.
— Вера Александровна! На коленях молим вас.
— Нет, нет!
— Ну, не смеем настаивать.
Так как было почти восемь часов, то решили немедленно двигаться.
* * *
Городской сад и театр в Баклажанах ничем не отличались от подобных же мест во всех других городах союзной провинции.
Глухой забор отделял сад от главной улицы, а за забором весь день погромыхивал кегельбан. Спектакли начинались, когда соберется публика, часов в десять вечера, и продолжались, особенно оперы, до рассвета. Во время длительных антрактов публика гуляла в саду, пила воды и пиво. Барышни ходили, обнявшись по пяти, по шести штук, и отлузгивались семечками от кудрявых ловеласов во френчах.
На этот раз в саду было особенно большое оживление, ибо кинематограф стал редким гостем в Баклажанах. Гражданин Яков Бизон, пробегая по саду, языком прищелкивал от удовольствия.
Самое здание театра было мрачно и действительно напоминало больше сарай. Экран, впрочем, натянули очень хорошо, только полотно было с протенъю, так что все картины шли как бы под непрерывным дождем. Гражданин Яков Бизон был не просто кинематографическим предпринимателем, но и сознательно относился к своей работе,
Каждой фильме он непременно предпосылал предисловьишко, за что поощрялся начальством. Конечно, если демонстрировалась драма «Подвиг красноармейца Беднякова» или «Когда стучит молот», так тут уже гражданин Бизон ничего не говорил. Тут и без слов все было ясно. Но такие фильмы почему-то избегал ставить гражданин Яков Бизон не то чтоб из убеждений, а так как-то… Лучше уж с предисловием (о предисловии в афише ничего не говорилось, чтобы публика не опаздывала).
Степан Андреевич и его спутники вошли и заняли первые, — то есть иначе последние, у стены, места как раз, когда гражданин Яков Бизон вышел на авансцену перед экраном.
— Товарищи, — сказал он, — в наши дни краха буржуазии и торжества пролетариата. Когда исторический материализм стал азбукой каждого человека, который мыслит здорово, и когда не сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание, то, приняв в соображение все это, товарищи, я и спрашиваю себя, нужна ли нам «Девушка из Калькутты»? Да, нужна, товарищи! Мы должны вскрывать язвы капитализма, должны определенно сказать себе: нет, этого-таки не должно быть, то есть чего не должно быть, товарищи? Чтоб девушка была в зависимости от эксплуататоров, хотя бы она и жила в далекой Индии. Пусть хмурятся брови рабочих, смотрящих в эту фильму, и пусть громче стучит по наковальне бодрый молот, А теперь, товарищи, приступим с глубоким чувством негодования к рассмотрению язв разлагающегося капитализма.
Послышалось знакомое с гимназических лет шипение, и на экране появилось сначала заглавие драмы, а затем портрет сестры Мэри Пикфорд под проливным дождем, которая, поворачивая лицо справа налево, посередине показала публике огромные с кулак зубы.
— Вот так клавиатура, — пробормотал инженер.
Девицы фыркнули и затряслись от безнадежного хохота.
Задребезжал из мрака рояль: «Пошел купаться Веверлей, осталась дома Доротея».
На секунду появился толстый человек, сидящий в роскошном кабинете и пишущий что-то со сказочной быстротой.
Тотчас же явилось и письмо: «Любезный друг, у меня выдался досуг. Хочу съездить к тебе в Калькутту. Меня там никогда не было. Твой граф Антон». На секунду опять явился граф, языком заклеивающий письмо. Затем лакей сразу захлопнул дверцу автомобиля. «Ямщик, не гони лошадей» — заиграл аккомпаниатор.
«На пароходе „Феникс“ ездила только самая нарядная публика».
— Дывись, дывись, якій парнище! — крикнул кто-то в первом ряду, но публика зашикала.
Пароход торжественно отходил от пристани. Степан Андреевич сел рядом с Пелагеей Ивановной. Он как-то сразу не вник в картину и плохо понимал. Искоса поглядывал на ее освещенный экраном носик. Она так и впилась в картину.
«Граф Антон не обращал на разодетых дам никакого внимания».
Степану Андреевичу вспомнились далекие годы, годы выпускных гимназических экзаменов, когда, бывало, сплавив навсегда с плеч всю историю мира, бежал он в Художественный электротеатр, чтобы якобы случайно встретиться там с. кокетливой гимназисточкой, только что навеки расквитавшейся с законом божьим. И тогда он сидел так же и косился на белый носик и слышал сзади бормотню такого же, как он: «Чуть-чуть не подпортил. Забыл, кто разбил кружку при Суассоне. Сказал — Карл, а оказывается — Оттон. Потом пала такой есть Гильдебраид, а я сказал Гальберштадт…» — «Это что, — шептал носик, — а я гонения все перепутала, хорошо — архиерей добрый. Не прицепился». И тогда так же плыли пароходы, носились чайки, мчались автомобили… Да было ли это когда-нибудь? Не было ли это просто шуткою того самого сознания, которому потом на орехи досталось от октябрьских пулеметов?
«Друг графа Эдуард жил безбедно, предаваясь порокам».
Человек в белом костюме опрокинул себе в горло бокал шампанского и под бешеную руладу бросился на шею графу.
«Друзья не видались семь с половиною лет».
Индианка вся в белом вдруг появилась в перспективе пальмовой аллеи. Граф, пораженный, поглядел ей вслед. Мгновенно расплылась по всему экрану его громадная физиономия с выпученными глазами и перекошенным почти до уха ртом.
— Втюрился Антоша, — сказал инженер, сам зажимая девицам рот.
«Увы, сомненья нет, влюблен я», — раскатывался пианист.
Степан Андреевич сидел и нервничал. Он не любил вспоминать далекое прошлое, а тут оно лезло с каждого квадратного миллиметра грязноватого экрана. Из всей тьмы кинематографической перло. И к тому же Пелагея Ивановна не подавала никаких признаков. Ей было просто любопытно смотреть и больше ничего. Сосед ее, по-видимому, и не интересовал вовсе.
Но был миг и некоторого удивления, когда вдруг действие моментально перенеслось в джунгли и прямо на публику помчался остервенелый тигр. Девицы завизжали, кто-то крикнул: «Xi6a так можно!» — а Пелагея Ивановна вдруг схватила за руку Степана Андреевича. Правда, она тут же сказала: pardon. Но дальше пошло лучше.
«Молодой моряк Джон любил после бури выпить пива».
В оживленной таверне бражничали моряки.
— «Коперник целый век трудился, — гремел рояль, — чтоб доказать земли вращенье».
Но затем сразу явилась та самая девушка, мечтающая у ручья.
«Грезы Аталии были далеки».
— «Дурак, зачем он не напился, тогда бы не было сомненья».
Но, спохватившись, нырнул последний аккорд в грустную «Ave Maria».
А моряки снова уже бражничали и швырялись бутылками, растерявшиеся звуки запрыгали в крамбамбули и, спотыкнувшись, раскатились «Не плачь дитёй», потому что толстомордый моряк хлопнул по плечу Джона и выплюнул надпись:
«Джон, ты что-то грустен сегодня».
И опять девушка у ручья, тигр в джунглях, и вдруг:
«Чтобы увидаться с Аталией наедине, Джон выбрал лунную ночь».
И вот тут-то, и вот тут-то… Степан Андреевич почувствовал, как вздрогнула его соседка. Да, это был он. Тот самый фокстрот, проглоченный тогда черною рясой. О, каким прекрасным казался Джон на фоне лунной джунгли!.. Как огромны были глаза у Аталии… Еще миг, и она перестанет отталкивать его. Уже… Перестала. И сразу разлетелась индийская ночь в пошлейшую электрификацию, и тускло просветлела надпись: «Конец первой части».