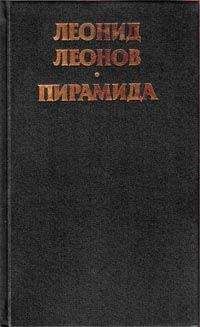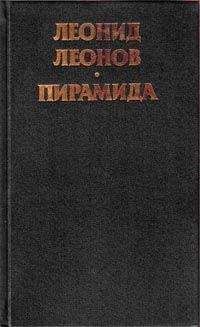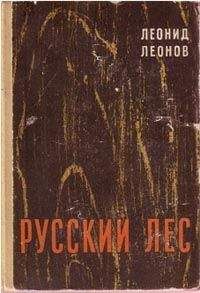- Да, понимаю.
Черимов рассеянно кивал, разглядывая ораву чудовищ, хозяином которых становился.
Скутаревский снова свесился вниз:
- Ханшин, не уходите... сейчас начинаем. - Он мешковато помялся, припоминая институтские непорядки. - А с курьершами ладить можете? У нас их достаточно, но они учатся управлять государством... черт, я не против: когда они выучатся, я уже умру. - И с любопытством покосился на собеседника, как тот примет эту пробную шпильку, но тот промолчал, лишь опустив глаза. - Но пока мне нужны просто курьерши. Очень тяжелая жизнь, знаете, тяжелая. И потом отучите эту балду... вон, внизу, пить. Убьет током, а меня засудят за недосмотр... Иван Петрович, прошу...
Возрастая в силе, подобно сирене, поднялось гуденье снизу. Люди отступили по углам и, кажется, стали меньше ростом. Похоже было, будто мириады электрических существ заторопились выйти на скользкую полированную медь. Так продолжалось четверть минуты, пока электрические брызги не прорвали тишину.
- Триста восемьдесят тысяч, - сказал глуховатый голос у пульта.
- Шпарьте дальше.
Еще с минуту длилось ожиданье, напоенное низким трансформаторным гудом. Вдруг поток скачущих молний, свивающихся в слепящий столб, родился между полюсами. Обнаженная, сконцентрированная до физической плотности, мчалась к своему равновесию энергия, и треск ее походил, как если бы тысячи остервенелых людей рвали на клочья летящую, распластанную в урагане ткань. Злое, обжигающее глаз божество это остро пахло озоном. Лампион на мгновенье затмился. Иван Петрович разомкнул цепь и отошел от пульта. "Опять пятьсот восемьдесят", - жестяным голосом сообщил он в опустошенной тишине.
Скутаревский стал надевать пиджак:
- Так вот, оставайтесь, молодой человек. Помогите ему посрамлять иностранца.
Разумеется, это было также пробной штучкой старика и, возможно, экзаменом; по крайней мере, так понял Иван Петрович внезапное исчезновение директора. Во всяком случае, повествуя об истории открытия, он углублялся в такие дебри, точно и Черимова заодно с Пиком собирался устыдить в невежестве. Несколько позже, узнав поближе тогдашнего собеседника, Черимов понял, что это была просто страховка себя перед незнакомым коммунистом... Он действительно остался, - этим закончилась научная карьера прокурора и началась собственная черимовская биография; все предшествующее Черимов считал лишь подготовкой к ней... Впрочем, вначале его появление в институте ничем почти не отразилось на внутренних распорядках; слишком много из того, что не касалось непосредственно научной работы, было запущено. И, как позже формулировал в своей речи Черимов, общественная жизнь слабо индуктировалась могучими токами, которые струились за стенами лаборатории. Только через неделю, на первом производственном совещании, Черимов выступил со словом, которое еще ни разу не звучало в этой нарядной, заставленной шкафами зале. Вступительную речь держал Ханшин, не старый еще ученый, малоизвестность которого объяснялась пока не столько отсутствием таланта, сколько соседством яркой славы Скутаревского. Черимов имел достаточно времени и материала для изучения среды, которую ему поручено было перепахивать.
Вначале Черимов улыбался украдкой наивному пониманию событий и значительным, даже страстным интонациям Ханшина. Оратор прихрамывал на каждом политическом слове, слишком непривычном для области, в которой он работал. Единственно чтобы скрыть ненарочную свою и вовсе не злостную улыбку, Черимов время от времени кивал утвердительно головой и записывал что-то в блокноте. Так он записал: заехать к дядьке Матвею... договориться с райсоветом о жилплощади... купить носки и нитки, - Черимов был холост. Как и Скутаревский, Черимов сидел в президиуме собранья, чуть позади оратора, и фигура Ханшина была видна ему целиком. Нищета сквозила в нем даже со спины; поношенный пиджак был по-клоунски узок и короток ему; сухие, с круглыми ногтями, руки костисто торчали из рукавов, гладко выбритые щеки подпирались старомодным крахмальным воротничком, белой и жалкой ветошкой, изглоданной во многих жавельных стирках.
Речь Ханшина действительно далека была от тех образцов, на которых учился Черимов. Говорить он не умел, жесты не соответствовали смысловым кускам, - мысль его не шла синхронно с жестом; он кричал незначащее и шепотом пытался передавать громовость. Он начал с того, что вот века человечество жило, безумно, позорно растрачивая свои силы, не умея по справедливости удовлетворить потребности всех. Новую эру истории надо же когда-нибудь начинать, - честь и труд великого запева рабочий класс предлагает науке делить отныне совместно. Он упомянул, что мир еще не оправился от потрясений недавней войны; и хотя моральные раны заживают на человечестве быстрей, чем на собаке, - именно так определил он циничное забвение и не всегда мудрое ликование уцелевших, - раны на экономике еще гноятся, смертельно заражая обреченные социальные организмы. Горькое и целительное лекарство, которое применила в отношении себя Россия, все еще отвергается политической медициной Европы. Разность систем и политическая ситуация требуют от советского хозяйства величайшего напряжения, и оттого план реконструкции, рассчитанный в целом на энтузиазм коллектива, упирается в доблесть каждого по отдельности.
- ...вчерашний день не хочет закатываться добровольно, декларационно ударил он словом. - Мы поможем ему в этом, сделав науку неистощимым арсеналом для пролетариата... - Тугим, еще не смятым платком он вытер запотевший лоб и сконфуженно залистал бумаги перед собою.
Аудитория молчала, она ждала Черимова. И по тому, как оживленно, при его появлении, задвигались блики очков, зашуршала невидимая бумага, заволновались люди, минуту назад чопорные и неподвижные бонзы, стало понятно все. В его речи хотели услышать отголосок сокрушительных директив; его приход рассматривался как начало разгрома, дисквалификации института, падения Скутаревского, и кто-то уже острил, что самое здание отдают под столовую губотдела коммунальников.
Это была сложная смесь подозрительной настороженности, порою даже вражды и вместе с тем терпеливого внимания, с которым в иное время они приглядывались и к повадкам своих электронов. Доклад Черимова выслушан был в безупречной тишине.
- Класс никогда не кончает самоубийством, хотя умиранию своему способствует сам, - тезисно начал Черимов и, глядя в затылок Скутаревскому, почему-то подумал, что она сильно слиняла за эти десять лет, пламенная его рыжеватина. - Его гибель, естественно, вызывает судороги в смежных организмах, и в этом заключены причины сомнений, страха и зачастую прямой враждебности их жизнетворным силам революции. Истинно передовой ученый не может быть реакционером по самой конституции своей... - И, дерзко перечислив имена, он беглым взглядом окинул всех тех классиков естествознанья, которые - одетые в тяжелые дубовые рамы выглядывали из книжных простенков.
Он запнулся; в этой аудитории митинговый прием не мог сойти за нужную политическую убедительность; не умея пока обойтись без бойкой, захватанной фразы, он машинально потер висок, и этот жест простого человеческого раздумья переломил настроенье аудитории, хотя бы временно, в его пользу. Программа речи была велика; необходимо было показать, как синтезировались в марксизме достижения естественных наук, подчеркнуть роль ученых в Советской стране и проиллюстрировать примерами, как всякий приходит к социализму через данные своей науки. Выгоднее было начать с параллелей между отношением правящего класса к науке в старое и новое время, и, хотя это выходило из пределов взятого им отрезка времени, он не удержался помянуть имена Галилея, Бэкона и Джордано.
Он не пренебрегал и мелочами, потому что и они убивают наповал. В его свидетельской шеренге стояли и Попов, которому морское ведомство расщедрилось на триста рублей для опытов; и Зинин, имевший несчастье в царской Казани впервые отыскать анилин; и Бессемер, умерший в нищете; и Фарадей, которому узколобый лорд отказывает в пенсии; и Менделеев, который по совместительству работал дегустатором вин у московского купца Елисеева. Следствия обозначили причину, он стал говорить об импотенции капиталистической системы, которая не в состоянии ни насытить до мудрости своих художников, ни реализовать рекорды своих наук. Это говорил простой рабочий, и тем суровее была его прокурорская речь, что прямолинейному разуму его недоступны были смягчающие обстоятельства...
Никогда еще не доводилось ему говорить так разбросанно, и никогда он не получал таких аплодисментов. Аудитория знала примечательную черимовскую биографию и теперь дружественно приветствовала человека, в такой мере потрудившегося над собой. Его вступление в институт Скутаревского могло считаться триумфальным, и собрание подходило к концу, когда произошел эпизод, который один мог рассеять весь черимовский успех. Среди поданных записок оказалась одна, без подписи, и Черимов, торопившийся закончить, с разбегу прочел ее вслух. Анонимный автор просил напомнить ему, где именно у Бебеля сказано, что для построения социализма прежде всего нужно найти страну, которой не жалко. Было так, точно выстрелили вдруг в Черимова из аллегорического букета, который подносили внезапные почитатели его большевистских талантов. С осунувшимся от неожиданности лицом, голосом очень спокойным, даже улыбчатым, Черимов предложил анониму назвать себя. Зал зашумел, задвигался, мнения резко разделились, и, хотя это и было то самое, чего втайне добивался Черимов, праздничность заседания была бесповоротно сорвана.