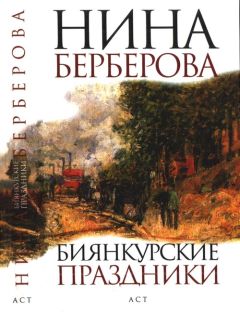— Нынче закрыто, — сказал человек с медалью.
— Нельзя ли узнать, где живет Расторопенко?
— Узнать можно, — опять сказал человек, — сейчас узнаете.
Он встал с табурета, положил часы и, с гирей в руке, пошел к дверям, показать Илье, как пройти в нужную ему квартиру. Но в это время сапожник внезапно перестал бить и сощурился на Илью.
— Если вы по делу о натирке полов, то они этим больше не занимаются, — сказал человек с медалью, дойдя до двери.
— Нет, я из провинции.
— Да вы не на счет путешествия нашего? — с робостью спросил вдруг сапожник, роняя гвозди изо рта.
Илья молча кивнул. Оба с минуту смотрели на него в смущенном удивлении.
— Вы приехали сами? — заговорили они беспорядочно и сразу, — что же, скоро? а прогонные дадут?
Илья опять кивнул.
— Дадут. Мне бы видеть кого-нибудь из расторопенских. Не проведете ли?
— К Расторопенко проведем, отчего не провести, — засуетился сапожник. — Ну, как это я вас узнал, а? Нет, расскажите, пожалуйста, вот случай!
Человек с медалью был степеннее; он взял Илью за рукав и поспешно повел по двору.
— Из провинции! Эх, слово-то какое! Забыли слово-то, — бормотал он.
Чинивший стулья под навесом присоединился к ним. На крутой лестнице с железными перилами Илье показалось, что за ним уже набралось человек пять, не меньше.
— Пашка, а Пашка, а у меня ножик есть, — донеслось до него со двора.
Квартира господина Расторопенко состояла из одной, очень узкой, длинной и грязной комнаты, где не было другой мебели, кроме широкой, в конец продавленной тахты, стола и двух стульев, — мамаша господина Расторопенко спала на полу. Но тем не мене, в комнату войти оказалось довольно трудно: поперек ее, на уровне человеческого лица, были протянуты проволоки, и на них с тщательностью педантическою и даже несколько преувеличенной, были развешаны на проволочных крючках раскрашенные кукольные головы; их было штук семьдесят, и все они грустно улыбались. Кругом этих, довольно-таки аляповато сделанных и в высшей степени мучительных предметов, ничего нельзя было разглядеть. Золотой порошок летал по комнате, словно солнечные песчинки, пахло скипидаром. Расторопенко, как справедливо сказали Илье, боле не занимался натиркой полов: с супругой и матерью он временно начал новое и столь же мало прибыльное дело.
— Склонитесь низенько-низенько, чтобы, Боже упаси, не задеть чего, — раздался голос мамаши Расторопенко, не видящей, кто именно вошел, но по всему догадавшейся, что вошло сразу несколько человек. Но жена Расторопенко, Марина Петровна, высокая, с высокой прической, несколько тяжелая и смуглая женщина, искусно нагибаясь, где надо, оказалась внезапно в двух шагах от Ильи.
— Я — Горбатов, — сказал он, снимая кепку.
Она покраснела густо, медленно, как краснеют люди смуглой кожи. Стремительно оглядела она Илью и вошедших с ним людей.
— Горбатов… Пройдите… Сядьте… — В замешательстве она раздвинула на проволоке кукольные головы, дала Илье пройти. Кое-кто вошел за ним; на лестнице, как ему показалось, поднимались еще люди.
Марина Петровна подождала, пока Илья сядет, она и сама села и оказалась посреди комнаты — но на этот раз не смутилась.
— Вот живем, видите, — вырвалось у нее, несколько истерически, — двор видели? Дети есть… Лучше бы их не было!
Она с ним говорила, как с чужим, она чего-то стыдилась.
— Я зашел сказать, — проговорил Илья, — что в конце этой недели вы можете собираться. Завтра я еду домой, и вам тотчас же будут высланы путевые деньги. Дело это решенное, как я и писал, а зашел я предупредить, чтобы все были готовы.
И в эту минуту он поднял глаза и увидел этих всех: это были «наши», созванные из разных мест двора. В дверях стояла целая толпа, человек не менее десяти.
Они раздались немного — господин Расторопенко протиснулся в комнату.
— Илья Степанович, дорогой, простите за волнение, — сказал он, неизвестно, извиняясь ли за свое волнение или за всеобщее, беспорядочное, но тихое волнение «наших».
Он поздоровался с Ильей. Они хорошо знали друг друга, хоть никогда до того не видались; но длительное дело переселения расторопенских на землю, которое в Сен-Дидье вел Илья, и постоянная переписка укрепили их несложные отношения. Они едва дали себе время рассмотреть друг друга.
— Вы слышали, что он сказал? — воскликнула Марина Петровна. — Едем мы, слышали?
Люди заколыхались. Мамаша собрала куклы — не дай Бог попортят! И за проволокой стали видны бледные (и отчего это, правда, всегда такие бледные?) лица.
— Ас одежонкой как? — раздался чей-то голос.
— Одежду, если кто не имеет, там справите, не трудно это, — сказал Илья. — На первое время все дадут, даже топливо. Дело новое, и французы эти уж очень душевные.
— Благодаря вам, Илья Степанович, душевность их, — вставил Расторопенко, — разве мы не знаем?
— Благотворители, может, какие? — спросил еще голос.
— Нет, не благотворители: сейчас потратят, да потом свое возьмут: дело с будущим, я писал. Тоже и местные кассы сельскохозяйственного кредита на помощь вам приходят.
Задние начинали теснить передних.
— Пусть заводские не напирают, — говорила мамаша. — Заводские всегда всех перетолкают.
Были среди вошедших и женщины, те две, что шили у окна. Мужчины пришли все — точно сейчас с работы: никто не был одет, как говорится, по-праздничному. Половина, впрочем, уже давно никакой работы не имела.
— Вот что я спросить хотел: тут ведь среди вас кустари есть, так временно придется ремесла бросить. Временно потому, что потом, может через несколько лет, если все пойдет, как сейчас, там организуется русский поселок; сейчас идет горячая работа именно по собиранию — очень все распылены. Тогда русским кустарям найдется дело. А сейчас — всем придется на земле работать.
Сапожник, Петром Ивановичем его звали, стоял всех ближе к Илье.
— На это идем, — воскликнул он, — ни Боже мой ремесла не жалко! Да и случайно оно — у большинства с кочевья нашего пошло, не с измальства, — с беды.
— Еще я сказать хотел: трудная работа предстоит. И вообще, как вы, может быть знаете, то, что вы из себя, из пролетариев, крестьян делаете — противоестественно это. Теперь наоборот — естественным считается процесс обратный: сейчас люди из деревни в город идут. Значит, в самом корне вашего переселения уже есть некоторая трудность, органическая как бы, — понимаете?
Люди неподвижно стояли перед ним; Расторопенко за раз обратился и к ним и к Илье.
— А мы, значит, обратным путем, противоположным, как бы Европе всей на удивление…
— В работе — жизнь; научены мы, не страшно, — сказал кто-то.
— Работа каторжная, я писал, — продолжал Илья. — Вы не сразу помещиками сделаетесь. Ваша работа будет вроде как бы переходная: жить будете, как крестьяне тамошние живут; птица, кролики будут: работать на спарже будете, там завод консервный. Инициативы никакой, пока не скопите: скопить можно в два-три года, — тогда будет хорошо, тогда к фермажу ближе. Только удовольствий и развлечений — никаких.
Марина Петровна, в возбуждении, с горящими глазами и лихорадкой в руках, прервала его:
— А здесь что за радости? А ну, скажите мне? Кинематограф да кровать, и то отрава одна — кинематограф… А кровать — к чему она когда детей девать некуда, когда детей иметь нельзя: для русской женщины кровать без детей — не радость! Она вся пылала, на глаза ее навернулись слезы: все потупились, Расторопенко делал ей знаки, которых она не видела и не хотела видеть.
— Там детям тяжело, — опять заговорил Илья, — школы нет, ученья нет настоящего. Вот переедете — мачеха моя хочет передвижную школу начать, а сейчас плохо — хоть коров паси.
Человек, бородатый и бледный, выступил из последних рядов. В комнате становилось трудно дышать от людей, постепенно ставших вокруг Ильи и господина Расторопенко.
— А тут, дорогой, что им, деткам нашим, предстоит, знаете? — спросил бородатый, и губы его дрожали. — Учить их тут не на что: каждая копейка алтыном прибита. Коров паси — эко сказали! Тут помирать им на улице, туберкулез тут. Помилуй Бог!
Расторопенко, волнуясь, заговорил:
— Сами вы знаете, Илья Степанович, и только по щепетильности душевной хотите нас обо всем предупредить: сами вы два месяца назад из этого вот самого дома одним своим письмом девчонку вывели.
Илья смутился.
— Она теперь ходит, — сказал он тихо.
— С ним?
— С ним.
— А он как?
— Плох. Недавно виделись.
Постепенно люди отходили от двери. Был здесь и повар «Города Киева», и человек, чинивший стулья и оказавшийся без ноги. Они вытягивали шеи по направлению к Илье, но Илья терялся: он решительно не знал, что им сказать, — уж очень не приучен был говорить да и столько писал он им обо всем!