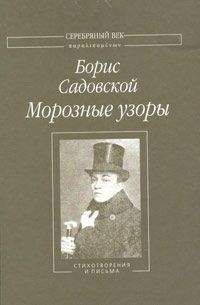Теперь матушка с сестрой одиноки: вот главнейшая причина выхода моего в отставку. Недавно дошло до меня известие, что Иван Иванович Эгмонт скоропостижно умер, оставив Володе имение в образцовом порядке.
Пятигорск, гористый маленький городишко на реке Подкумке. С десяток улиц, сотни три деревянных домиков, ванны, галереи. Бульвар небольшой, но тенистый; здесь утром и вечером играет полковая музыка.
У Найтаки в задней комнате по ночам сражаются в банк и штосе. Азартных игроков немного, но все наперечет. При игре постоянно присутствует отставной генерал Марин, герой двенадцатого года, на костыле и в очках. Марин человек веселый и очень общительный; сегодня я выслушал от него на прогулке забавный анекдот.
В тринадцатом году отряд Марина стоял в каком-то польском местечке. Владелец фольварка, богатый и важный пан, предложил постояльцу поохотиться. Марин согласился, и они поехали, сопровождаемые казаками. Вдруг поляк остановил коня и шепчет: «Зайонц!» Марин в самом деле видит зайца, целится, стреляет: заяц ни с места. Стреляет опять: то же самое. Поляк хохочет: «Примус априлис, пане!» Вместо зайца было чучело. Марин нахмурился: «Смеяться над русским офицером? Эй, казаки, всыпать ляху сотню нагаек!» Мигом донцы стащили пана с седла; бедняк обезумел и начал плакать. «Примус априлис!» — со смехом крикнул Марин.
Генерал в Пятигорске с дочерью, молодой девушкой. Ее неизменный кавалер путейский поручик Арнольд сообщил мне любопытный способ откармливания телят. Новорожденного теленка подвешивают и непрерывно поят свежими сливками с толченым миндалем. Через полгода превращается он в огромную тушу с тонкими ножками и белой блестящей кожицей. Такая телятина имеет вкус сливок и ценится на вес золота.
* * *
— Воля ваша, сударь, как вам угодно, а только Ермошка от рук отбился, — сказал Николеньке старый Илья, подавая умываться. — Вот извольте послушать.
Под окном заливался детский голос:
Рыжий красного спросил:
Где ты бороду красил?
Я не краской, не замазкой:
В Арзамасе на прикрасе
Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал.
— Это он Ивана нашего дразнит.
— И что же Иван?
— Что Иван? Ведь он у нас, известно, блаженный. Пущай, слышь, поет, покудова мал: как вырастет, перестанет.
Илья подал барину длинный чубук и пошел за чаем. Вбежал Мишель, смеющийся, румяный, в расстегнутом армейском сюртуке.
— Нет, это стоит рассказать! Ты Бурнашева помнишь?
— Какого?
— Да Бурнашева, что стихи сочинял.
— Не помню.
— Ну, все равно. Бурнашев поднес графу Петру Александрычу поздравление со днем ангела. Ты только послушай:
Вельможа в смысле русском,
Он был и воин, и министр.
Теперь, как добрый семьянист,
Живет в селенье Уском.
Семьянист, а? Ха-ха-ха! Кстати, брат, продай мне твоего Ермошку: хочу казачка завести.
Николенька поморщился.
— Никак не могу. У Мартыновых не в обычае продавать дворовых.
…а царевич Федор все-то с нищими, со слепыми да с убогими. Нища братия, друга милые, пейте, ешьте, одевайтесь в одеяньице с моего плеча. Грозный царь узнал, прогневался, приказал судить царевича. Сидит царь в палате лазоревой, круг его бояре скурлатые, промеж них палач с топориком. А царевич Федор сундук принес: сундучишка немудрященький, две колоды долбленые. — «Прикажи, государь-батюшка, оценить мои сокровища». Вот открыли сундук, видят сор да дрязг. Захлопнули крышку, опять подняли. Глядь, ан там древа с плодами и листвием, заливаются-поют птицы райские, а в середине стоит церковь с оградою. И загудел на всю палату колокольный звон. Царь с боярами молчат, слушют; они слушали три минуточки: три минуточки, ровно тридцать лет; и согнулись все и состарились, оплешивели, обеззубели, лишь один царевич моложе стал…
Вдохновенное, в рыжих кудрях, рябое лицо Ивана сияло. Ермошка смотрел на него во все глаза.
Я переменил квартиру. Марья Ивановна Верзилина гостеприимно предложила мне поместиться в их домике на Кладбищенской. Кроме меня здесь гостят: корнет Глебов и подпоручик Раевский, по прозвищу Слёток. Сама генеральша с тремя дочерьми в большом доме рядом.
С Мишелем мы встречаемся довольно часто. Он сюда приехал в июне и поселился у майора Чиляева. Очень он бывает мил, когда не острит; последнее обстоятельство тем прискорбней, что Мишель не различает, с кем можно и с кем нельзя шутить. Недавно он при всех сказал Марину:
Куда, седой прелюбодей,
Стремишь ты грешных мыслей беги?:
Кругом с арбузами телеги
И нет порядочных людей.
Марин искусно обратил эту дерзость в шутку, но разговаривать с Мишелем перестал.
К сожалению, Мишель был обокраден в дороге. Пропала и моя посылка от матушки. Деньги мне Мишелем возвращены, но дневник Натуленьки исчез бесследно.
Вчера я весь вечер провел у Найтаки в игрецкой комнате. Здесь были Марин с Арнольдом, Раевский, Монго-Столыпин. За ужином Марин рассказал интересную историю. С фельдмаршалом Паскевичем встречается случайно былой сослуживец, поручик в отставке, бедняк круглый. Паскевич приглашает его к столу. Как старые однополчане, они на «ты». За десертом фельдмаршал говорит поручику: проси что хочешь, все исполню. — Спасибо, дружище, мне ничего не надо; разве подари бутылочки две красного, что пили за обедом.
Разговор ни к селу ни к городу был прерван Раевским. — «Говорят, министр путей сообщения граф Клейнмихель удивляется, почему это часы в разных городах отмечают время по-разному: нельзя ли приказать, чтобы везде был одинаковый час». Арнольд вступился за своего министра: «Вы бы лучше рассказали, как Клейнмихель сумел в один год отстроить Зимний дворец; это поважнее лакейских сплетен». Слёток покраснел и раскрыл было рот, но находчивый Марин поспешил предупредить его. — «A propos о пожаре: Государь дня через два выехал кататься. Вдруг какой-то бородатый мужик в сибирке бросает ему на колени пакет и скрывается. В пакете оказалось двадцать пять тысяч на отстройку дворца».
* * *
Отогнув ворот красной канаусовой рубашки, Мишель присвистнул и пустил вороного во весь опор. То, привставая на стременах, он мчался лихим полетом, то вдруг осаживал храпевшего коня. У городского предместья близ развалившейся сакли спрыгнул, потянулся и снял фуражку.
Тихий, горячий июльский вечер. Дыша всей грудью, смотрел и слушал Мишель.
Скрипит арба; на дворе загорелый кабардинец, весь в лохмотьях, жарит на вертеле шашлык; пахнет чесноком и бараньим салом. Под белой акацией, взмахивая крыльями, шипит привязанный за ногу седой орленок.
— Дайте пройти.
Прямо на Мишеля уверенно шел молодой священник в полинялой рясе; за ним дьячок.
Мишель посторонился и нерешительно двинулся, будто собираясь принять благословение; священник, не заметив его, прошел.
Мишель стоял, покусывая ногти.
— О чем задумался?
Усмехаясь, разглаживает красивые скобки длинных усов Николенька; бешмет светло-серый, черкеска верблюжьего сукна, высокая белая папаха, в чеканном поясе серебряный кинжал.
— Да вот повстречался с попом: дурная примета.
* * *
Не думай, что тайны божественной жизни выше понятия нашего.
Христа поставляй от себя не далее, чем Сам Он Себя поставил; сопутствуй Иоанну при обозрении Нового Иерусалима.
Сердцу не давай отбегать; прочь гони блуждающие мысли, как Авраам от жертвы своей гнал хищных птиц.
Пусть сердце тебя понуждает до времени кончить дело: не слушай его, без виноградного гроздия из обетованной земли не уходи.
* * *
Священнику Скорбященской церкви отцу Василию двадцать восьмой год. Он крут и молчалив; живет по уставу, исповедует по требнику.
Скромная усадьба отца Василия в конце Кладбищенской улицы, на пригорке. Как раз напротив дом генерала Верзилина, того самого, что на вопрос Государя после удачных маневров, не нуждается ли он в чем, ответил: я все имею по милости Вашего Величества. Правее живет отставной майор Чиляев, бывший в ординарцах при Суворове. На прощанье князь Италийский подарил Чиляеву червонец: в землю посадишь, будет урожай. Земли у Чиляева не было: закопал он суворовский подарок на городском участке и выстроил здесь дом.
Вокруг всей усадьбы отца Василия деревянная на столбиках крытая галерея; на дворе пчельник, кухня, хлев, погреба. И в нескольких шагах пустынное поле с видом на кладбище.
— Женатый поп не Богу слуга, а мамоне. Коли не хуже того. Всего-то попики наши боятся, ровно мокрые курицы. Да ведь и то сказать: у иного на шее дюжина незамужних дочерей да попадья на придачу. А латынскому попу не страшно: хоть гол, да сокол.