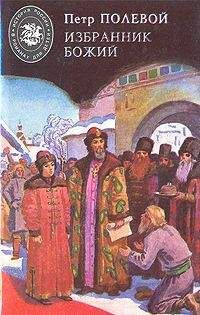— Знаю, знаю, кумушка! До самой Костромы, почитай, наизусть все деревни помню.
— Ну, коли помнишь, так буди своего боярчонка, надевай на него одежонку крестьянскую и лаптишки с оборами… Вот тебе тут все в узле припасено. Кстати сказать, у меня и для боярыни есть вести… Тоже из худых лучшенькие…
Сенька не заставил себе повторять эти слова, тотчас постучался в избу, и когда Марфа Ивановна отворила ему дверь, он попросил у нее дозволения переодеть Мишеньку в крестьянскую одежду. Марфа Ивановна ничего ему не ответила и только глубоко вздохнула, когда Сенька стал быстро и ловко раздевать разоспавшегося ребенка и заменять его боярское платье и белье грубой крестьянской домотканиной и дерюгой. Особенно было ей больно видеть, когда Сенька снял с ног Мишеньки красные сапожки и, окутав их чистыми онучами, обул ему лапти и стал обматывать темными оборами.
— Боже праведный! — воскликнула она. — До чего мы дожили? Кто бы мог этого ждать?
— Э-э, матушка! И лучше, что не ждала этого. Ждавши-то небось хуже б мучилась!.. — сказала тетка Анисья, помогавшая Сеньке обувать Мишеньку. — А я, кстати сказать, тебе весть принесла на утеху.
— Весть?! Какую? О Филарете Никитиче? — быстро спохватилась Марфа Ивановна, обращаясь к старухе.
— Догадлива же ты! Сердце сердцу весть дает… Вестимо, о господине митрополите. Ныне молодцы из города пришли, так говорили, жив, мол, он и невредим… Ворами взят в полон и под крепкой охраной отправлен в Тушино, к ихнему царьку.
— В Тушино? — воскликнула Марфа Ивановна.
— Так сказывали. А других посекли, поувечили многое число, таскали, вишь, из собора потом да так на площади грудами и покинули…
Ужас охватил Марфу Ивановну при мысли о том кровопролитии, от которого она была избавлена каким-то чудом.
— Ну вот! И обряжен молодец, а и проснуться-то ему невмоготу, — добродушно заметила тетка Анисья. — Прощайся с ним, матушка! Мы его сонного так на воз и снесем…
И она подхватила сонного Мишу, как перышко, на руки и поднесла к Марфе Ивановне, которая его благословила и поцеловала в лоб, не сказав ни слова.
Но когда тетка Анисья со спящим ребенком на руках, а за нею и Сенька, простившись с Марфой Ивановной, скрылись за дверью, несчастная мать бросилась к той лавке, на которой брошена была одежда ее сына, опустилась на нее и разрыдалась горько и неутешно…
Некоторое время спустя старая, разбитая на передние ноги кляча, впряженная в небольшой воз сена, наваленный на дрянную, скрипучую и неокованную тележонку, вывозила воз задами с противоположного конца деревни, направляясь по большой проезжей Костромской дороге. На возу, прикрытый драным зипунишкой, лежал и дремал курчавый и румяный мальчик в простой и поношенной крестьянской одежонке. За возом шагал высокий и сухощавый мужик в рваном сером кафтанишке, в лаптях, в обтрепанной суконной шапчонке. Помахивая кнутиком и покрикивая на бурую кобылку, весьма лениво передвигавшую ноги, он мурлыкал под нос песенку, а сам думал свои думы:
«Вот кабы теперь только к полудню до Горки добраться да боярчонка туда благополучно довезти, так, отдохнувши, можно бы до вечера еще десятка полтора верст сделать… А тетки Анисьи сын сказывал, что на полсотни верст путь чист от воровских шаек».
— Мама, мама! Где ты? — испуганно вскрикнул Миша, приподнимаясь на возу и оглядываясь кругом с изумлением.
— Мишенька! А, Мишенька! — крикнул ему в ответ Сенька. — Матушка за нами следом тою же дорогою едет, а нам приказала вперед поспешать… Я с тобою послан, и ты ничего не бойся!
— А где же мое платье? Зачем на меня это надели?.. И сапожки с меня сняли красненькие…
— Так матушка с батюшкой приказали, потому тут на дороге разные дурные люди ездят, могли бы у тебя твою одежонку отнять, а этой не возьмут… Никому не нужна!
— А та-то где же? — с грустью спрашивал мальчик. — Я сапожки те очень любил…
— Твоя боярская одежда с сапожками у матушки осталась… Да в тех сапожках по пыльной дороге и ходить негоже… Пожалуй-ка сюда с возу, пойдем со мною рядком…
Он помог мальчику слезть с воза, повел его за руку и стал ему рассказывать, какой ему путь предстоит пройти, и сколько дней они в пути будут, и какие у них могут быть лихие встречи на пути, и как ему надо остерегаться, не называясь своим настоящим именем.
— Называйся всем Касьяном, моим племянником. А станут спрашивать, откуда ты родом, говори, из-под Костромы…
И мальчик все внимательно выслушал и мало-помалу входил в свое положение, тягостное положение скитальца, укрывающегося от каких-то страшных, неведомых ему врагов…
— А что, если нам вороги на дороге встретятся да укрыться от них негде будет? — спросил Миша своего пестуна. — Разве уж тогда мне в сено зарыться!
— Нет, батюшка! От лютого ворога в сене не укроешься, лучше уж ему прямо в глаза смотреть… Потому Бог-то над всеми нами…
И не успел он этого договорить, как закурилась вдали пыль на дороге, заблистали в клубах ее копья да шеломы, заслышался дробный топот коней подступающего конного отряда, который высыпал на повороте дороги из-за темного бора.
Сенька глянул вперед, прикрывая глаза рукою, и нахмурился.
— Вот они, бесовы дети!.. Легки на помине! — пробормотал он не без некоторого волнения.
— Ой, Сенюшка, боюсь я их! — прошептал Миша, боязливо прижимаясь к своему пестуну.
— Не бойся, дружок, да помни, что ты мой племянник… Крестьянскому мальчонке что они поделают?
И, говоря это, бросился вперед, к своей бурой кобыле, и стал поспешно отводить ее вместе с возом на обочину дороги.
— Стой! Стой! — закричало ему разом несколько голосов, и целая гурьба каких-то всадников в разных одеждах, на разношерстных конях окружила наших путников. Судя по наружности и одежде, тут были и казаки, и литва, и всякий местный сброд.
— Что везешь? Куда везешь? — гаркнул над самым ухом Сеньки долговязый и чернявый запорожец и, нагнувшись с коня, ухватил его за ворот.
— Чай, сам изволишь видеть, что везу! — ухмыляясь принужденно, отвечал ему Сенька, снимая шапку. — Одно сено на возу.
— Вижу, что сено, чертова кукла! А под сеном-то что? — грозно рявкнул казак.
— А и под сеном сено же, — равнодушно отвечал Сенька.
Запорожец выпустил Сенькин ворот из рук, подвернул коня к возу и что есть мочи ткнул копьем в воз… Его примеру последовали и его товарищи, а потом один из них не поленился слезть с коня и долго шарил в возу руками и тыкал в него во всех направлениях саблею.
— Да хоть весь воз опрокиньте, то же будет, — сказал Сенька. — Везу сенцо для своей клячонки, чтобы не покупать дорогой.
— В возу и точно ничего нет, — сказал тот, кто в нем рылся.
— А мальчишка чей у тебя? — спросил Сеньку запорожец, оглядывая Мишу.
— А свой же. Племянник, сестрин сын. К сестре и веду его, надоел мне без матери насмерть — мама да мама. Ну, и веду.
— Обыскать его! — крикнул запорожец, который, по-видимому, был начальником этого небольшого отряда.
Несколько дюжих молодцов принялись живо обыскивать Сеньку, размотали его онучи, вывернули карманы, порылись за пазухой и сыскали на нем всего только два алтына, которые запорожец не побрезговал опустить в свой карман.
Потом, пока Сенька поправлял на себе одежду, тот спросил его о дороге к Ростову, о том, что там делается и давно ли там Лисовский с Заруцким хозяйничают? На эти последние вопросы Сенька прикинулся совершенно ничего не знающим, сказав только, по обычаю многих русских людей, что «он-то человек темный, под Ростовом живет, а в Ростове уж второй год не бывал».
Запорожец в ответ на это только выругался сквозь зубы и поехал вперед, за ним двинулись и все его спутники, справа и слева объехав Сенькину клячонку, гремя и звеня оружием, которым они были обвешаны, и звонко выбивая дробь коваными копытами своих рослых и сытых коней.
Когда вся полусотня прорысила мимо наших путников, обдавая их шумом и клубами пыли, Сенька перекрестился и прошептал про себя:
— Пронес Господь!
Потом, обратившись к Мише, который ни жив ни мертв стоял около воза, он проговорил ему в утеху:
— Вот видел? Каково бы было, кабы ты от них в возу укрываться стал? Весь воз искололи, кто копьем, кто саблей… А тебя и неукрытого сберег Господь… На все Его святая воля!
Он спокойно вывел свою бурую кобылку на дорогу и, взяв Мишеньку за руку, с облегченным сердцем зашагал опять за возом по дороге, покрикивая на буреху и мурлыча под нос песенку.
Весна 1610 года наступила в Москве и на всем севере Московского государства сухая и теплая, снега сошли рано и незаметно, вешних вод почти не было, и в конце апреля лист на деревьях был уже такой, какого в иные годы и в конце мая не бывает… На солнце было жарко, и в тесных московских домах становилось душно, везде выставляли зимние рамы, везде распахивались настежь наглухо забитые на зимнее время двери из хором на садовое крыльцо, а сады начинали подчищать и убирать по-летнему, раскутывая в них плодовые деревья, вскапывая гряды и рассадники.