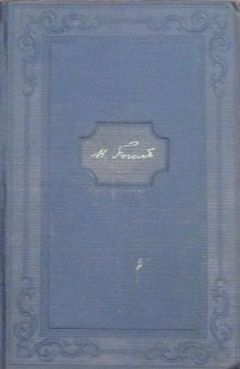Старайтесь всех избранных и лучших в городе подвигнуть также на деятельность общественную. Всякий из них может много сделать. Их можно подвигнуть. Если вы мне дадите полное понятие об их характерах,[189] образе жизни и занятия<х>, я вам даже скажу, чем и как можно их подвигнуть и подстрекнуть. Есть в русском человеке сокровенные струны, которых он сам не знает. Вы мне уже назвали некоторых, как людей умных и благородных вообще. Я уверен, что их у вас даже гораздо больше. Не смотрите на отталкивающую наружность, на многие неприятные замашки, на грубость и черствость обращения или даже на фанфаронство и щелкоперство многих поступков. Это есть теперь более или менее у всех нас. Мы все в последнее время обзавелись чем-то особенно неприятно-заносчивым в нашем обращении, но внутри того же человека шевелятся добрые чувства. Особенно не пренебрегайте женщинами. Клянусь, женщины гораздо лучше нас, мужчин. В них больше великодушия, больше отважности на всё благородное. Не глядите на то, что они закружились в вихре моды и пустоты. Если только сумеете заговорить им языком самой души, если только сколько-нибудь сумеете очертить перед женщиной ее высокую обязанность, выполнения которой ждет от нее теперь весь мир, то есть быть воздвижницей ко всему прямому, честному и благородному, кликнуть клич миру на благородное стремление, то та же самая женщина, которую вы считали пустой, благородно вспыхнет, взглянет на самоё[190] себя, на брошенные свои обязанности, подвигнет самоё себя[191] на всё чистое, подвигнет своего мужа на честное и благородное выполнение своего долга и, швырнувши в сторону все свои тряпки, всех обратит к делу. О, я знаю, что женщины у нас очнутся прежде мужчин, благородно попрекнут нас, благородно хлеснут и погонят нас бичом стыда и совести, как глупое стадо баранов, прежде чем каждый из нас успеет очнуться[192] и почувствовать, что ему следовало бы побежать и самому, не дожидаясь бича. Вас полюбят и полюбят сильно, да и нельзя им не полюбить вас, если узнают вашу душу, но до того времени вы всех их любите до единого, никак не взирая на то, если бы он вас[193] и не любил. Но письмо мое становится длинно. Чувствую, что начинаю уже говорить о том, что не придется кстати ни вам, ни вашему городу, ни вообще вашим обстоятельствам, но вы сами этому виной, не сообщивши мне подробных сведений ни о чем. До сих пор я точно как в лесу. Слышу только о каких-то неизлечимых болезнях и не знаю, чем кто болит. А у меня обычай не верить по слухам никаким неизлечимостям, и никогда не назову я никакую болезнь неизлечимой по тех пор, пока не ощупаю ее моею собственной рукою. Итак, вновь рассмотрите ради меня весь город, опишите всё и всех, не избавляя никого от трех неизбежных вопросов: в чем состоит его должность, сколько на ней можно сделать добра и сколько зла.[194] Как прилежная ученица, сделайте для этого тетрадку и не забывайте в объясненьях со мной быть как можно более обстоятельну. Повторяю вам вновь, что я глуп и глупее всех людей по тех пор, пока не введут меня в самое подробное познание. Воображайте лучше, что перед вами стоит ребенок или такой невежа, которому всё объяснять до последней булавки. Я не знаю, отчего вы вздумали, что я какой-то всезнающий. Что мне случилось вам кое-что предсказать и предсказанное сбылось, это произошло единственно из того, что вы меня ввели в тогдашнее положение души вашей. Велика важность угадать! Стоит только попристальнее вглядеться в настоящее, будущее вдруг выступит само собою. Дурак тот, кто думает о будущем мимо настоящего: он или соврет, или скажет загадку. Я вас между прочим еще побраню за следующие ваши строки, которые здесь выставлю вам перед глаза: «Грустно и даже горестно видеть вблизи состояние России*, но, впрочем, не следует об этом говорить. Мы должны с надеждою и светлым взором смотреть в будущее, которое в руках милосердного бога». Оттого и беда вся, что мы не глядим в настоящее, а помышляем о будущем. Оттого и беда вся, что как только, всмотревшись в настоящее, заметим, что горестно, грустно и не так, как нам хочется, мы махнем на всё рукой и давай пялить глаза в будущее. Оттого бог и ума нам не дает.[195] Оттого и будущее висит у нас теперь точно на воздухе.[196] Слышат некоторые, что оно хорошо, благодаря некоторым передовым людям, которые тоже услышали его чутьем, а не арифметическим выводом. Но как достигнуть до этого будущего, никто не знает. Оно точно кислый виноград.[197] Все позабыли, что пути и дороги к этому светлому будущему сокрыты именно в этом темном и запутанном настоящем, которого никто не хочет узнавать,[198] всяк считает его низким и недостойным своего внимания![199] Введите же хотя меня в познание настоящего. Не смущайтесь мерзостями и подавайте мне всякую мерзость. Для меня они не в диковинку: я сам довольно мерзок. Пока я еще мало входил в мерзости, меня всякая мерзость смущала, я приходил тогда в уныние от многого в России, и мне за многое становилось страшно. С тех же пор, когда я стал побольше всматриваться в мерзости, я просветлел духом. Передо мной стали обнаруживать<ся> исходы, средства и пути. И благодарю я более всего за то бога, что он сподобил меня хотя сколько-нибудь узнать мерзости как мои собственные, так и бедных собратий моих. Иесли есть у меня какая-нибудь капля ума, свойственного не всем людям, так это оттого, что всматривался я побольше других в эти мерзости. И если мне удалось помочь некоторым близким друзьям моим, так это оттого, <что я> всматривался побол<ьше> в эти мерзости.[200] И если я приобрел наконец любовь к людям не идеальную, но существенную любовь, так это всё же оттого, что всматривался я побольше в мерзости. Не пугайтесь же и вы мерзостей и особенно не отвращайтесь от тех людей, которые вам кажутся почему-либо мерзки. Уверяю вас, что придет время, когда многие у нас на Руси из чистеньких горько заплачут, закрыв руками лицо свое, именно оттого, что считали себя слишком чистыми, что хвалились чистотой своей[201] и всякими возвышенными стремлениями куда-то. Помните же всё это и, помолясь, примитесь снова бодрей и свежей за дела свои, чем когда-либо прежде.[202] Перечтите раз пять, шесть мое письмо, единственно потому, что в нем всё разбросано и нет строгого, логического порядка, чему, впрочем, вы сами причиною. Нужно, чтобы[203] существо письма осталось всё в вас, вопросы мои стали бы вашими вопросами, желанье мое вашим желаньем, чтобы всякое слово и буква из него засели в вашей голове,[204] преследовали бы вас и мучили по тех пор, пока не исполните моей просьбы таким образом, как я прошу.
Бог вас да благословит во всем! Прощайте!
Ваш Г.
Толстому А. П., 18 июня н. ст. 1846*
31. А. П. ТОЛСТОМУ.
Фрейвалдау. Июнь — не помню числа <18 июня н. ст. 1846>.
Наконец, пишу к вам из Греффенберга, куда прибыл благополучно, отдохнул два дни и вот уже другой день начал лечение. От дороги ли,[205] а может быть, отчасти, и от грубиевского прописания*, которое я выполнял доселе по возможности, в дороге я почувствовал себя несколько лучше, имел <… >[206] натуральное, один или два раза, что для меня важно и что, однако ж, прекратилось с начатием водяного курса. И Греффенберг и Фрейвалдау грустны, почти ни души; кроме бедного Дегалета*, который еле ходит с закрытыми глазами и ничего не видит, только двое русских. Один армейский полковник Быков, другой какой-то Лосев*. Во Фрейвалдау никого. Был я в Линде… <нрзб.> затем, чтобы повидать князя Барятинского*, который лечится у Шрота и от него в восторге. Его курс почти на исходе. Он говорит, что, несмотря на страшную слабость, чувствует себя как бы перерожденным. Но я уже давно привык не верить тем больным, которые еще вполне не вылечились,[207] что, впрочем, никак не мешает быть Шроту в своем роде[208] гениальным врачем, а кн<язю> Барятинскому умным и замечательным человеком, несмотря на обвинение[209] братца вашего Алексея Петровича в глупости. В Греффенберге в это лето несравненно меньше лечащихся, чем во все прежние годы. Приезды значительно прекращаются, это я уже слышал всюду на дороге. Меня разбирает тоска. Абрейбунги и умшлаги* противны и почти невыносимы, а главное то, что я не имею чрез то времени заняться тем, чем мне нужно спешить; в дороге я имел возможности больше заниматься. Я думаю, я Греффенберг просто брошу, тем более, что от него вся надежда только на небольшое освежение, а перееду на море, именно в Остенде: там больше бывает русских, туда, может быть, и вы заедете из Лондона. Мне же особенно нужно бежать от тоски, которая наиболее меня одолевает тогда, когда нет с кем провести вечер и сколько-нибудь позабыть в беседе, тягость и трудность дня. Я получил письмо от Софьи Петровны*, которая так убеждает и меня, и вас приехать в Неаполь, что вам особенно ни в каком случае невозможно не выполнить таких убедительных и жарких прошений. На это письмо вы отвечайте не в Греффенберг, но во Франкфурт, на имя Жуковского. Спросите у Груби, почему мне в Германии стали давать из аптек порошок не темносерый, как в Париже, но совсем желтый, и притом сухой, а не влажный.