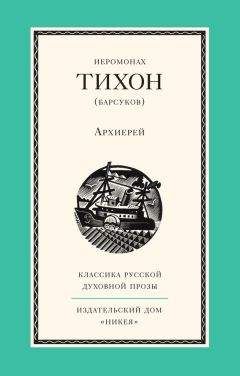А я говорю, что все это могло произойти и в обратном порядке: какая-нибудь зверообразная человеческая чета, в период изменяемости специфических свойств своих, народила детей, утративших что-либо из человеческих свойств. Ненормально развитый мозг, заключенный в неправильно развившемся черепе, не позволил развиться умственным способностям. Этот недостаток должен был быть переданным потомству, и так как он имел большое значение в борьбе за существование, то получилась новая низшая раса, которая, не будучи в состоянии конкурировать с людьми, бежала в леса, где вынуждена была питаться грубой пищей и спасаться на деревьях, благодаря чему у людей развились звериные челюсти, а руки и ноги превратились в цепкие лапы. Получилась обезьяна…
Говорят, человечество прогрессирует. А по-моему, всю жизнь человечества на всем протяжении прожитых им тысячелетий нужно представлять движущейся по двум ломаным линиям, которые выходят из одной точки, но затем расходятся: одна, извиваясь и уходя в пространство, постепенно повышается, другая, тоже образуя то большие, то меньшие колена, постепенно понижается.
Адам – исходная точка. Происшедшее от него и размножившееся человечество в лице одних стремилось к лучшему, к совершенству, двигалось по восходящей линии, в лице других – не искало ничего, кроме широкого и полного удовлетворения своих инстинктов, а потому, за невозможностью остановиться на точке замерзания, опускалось ниже и ниже, образуя нисходящую линию.
Больше всего приложили стараний, если можно так выразиться, к улучшению и усовершенствованию породы человека греки. Они заботились о его всестороннем развитии. Каковых результатов достигли они, об этом мы можем судить по остаткам пластического искусства античного мира. Статуи Аполлона, Венеры, Геркулеса и других и теперь чаруют нас идеальной красотой человека, именно человека, а не одних только форм его тела. Грек в статую хотел отлить живого человека, и статуи отразили не только красоту тела, но и ум, силу, храбрость, мощь, смелость, благородство и так далее, что уже есть принадлежность духа.
Жизнь человечества изобразила, таким образом, геометрический угол. Основание его – человек, крайняя точка по линии восходящей стороны угла – Аполлон, таковая же по нисходящей – прапрадед нынешнего гиббона или шимпанзе.
Но Аполлон в действительности существовал лишь как прекрасная мечта художника-ваятеля, а гиббон – как факт…
И тьма объяла человека…
Человечеству грозила гибель, и на этот раз уже окончательная.
Владыка замолчал, несколько утомленный продолжительной беседой. Отец Герасим, подавленный каким-то тяжелым чувством, сидел с глубоко поникшей головой. Время пробегало в ночной тишине. Где-то вдали на одной из городских колоколен часы пробили полночь. За окном квартиры сгущалась темнота. Вот она, густая и мрачная, как будто зашевелилась и побежала мимо окна. Послышался свист ветра. Тяжелая волна всколыхнувшегося воздуха ударилась в оконную раму, охнула, вздрогнула и раскатилась по стеклу дребезжащими звуками. Надвигалась, очевидно, гроза.
Отцу Герасиму вспомнились его бессонные ночи, мучительные призраки, но теперь они показались ему бледными и тусклыми в сравнении с той действительностью, которую обрисовал епископ. Он понял, что действительно прозрел лишь сотую долю «язвы». Но если епископ прозрел ее всю, то почему же он так спокоен и бесстрастен? Почему в глазах его не отражается ничего, кроме глубокой, что-то прозревающей думы?..
И как бы в ответ на завертевшийся в мыслях отца Герасима вопрос полилась вновь речь владыки.
– Мир, растлеваясь, погибал, – заговорил владыка, – человек, разъедаемый «язвой», вырождался. И вот когда начала оскудевать в мире жизнь, когда человечество в лице своих лучших представителей поняло, что ему грозит погибель, от которой никто не во власти избавить его, поняв это, стало в одних местах учить прожигать свою жизнь, чтобы, получше использовав оставшиеся в его распоряжении мимолетные наслаждения, заткнуть свои уши и закрыть глаза на все мучения и страдания людей, а в других для этой же цели велась проповедь самоубийства. В это время стали раздаваться кое-где отдельные голоса, говорившие о каком-то избавлении, имеющем наступить, и даже в скором времени. Особенно ясно раздавались эти голоса у евреев. Пророк Захария возвещал, что откроется дому Давидову и жителям Иерусалима источник для смытия греха и нечистоты [10]. Пророк Исайя так был уверен в этом, что о будущем говорил как уже о совершившемся и проповедовал о Некоем, Который взял на себя все наши немощи и понес наши болезни. Царь Давид о Нем же возвещал, что Он не увидит тления[11], а говоря об имеющих наступить временах, тот же Исайя пророчествовал, что тогда ни один из жителей не скажет: «Я болен», потому что народу, живущему там, отпустятся согрешения [12]. Говорили, одним словом, о том, что должно совершиться что-то такое, что поразит «язву» в голову и уничтожит главное орудие ее – тление.
И действительно, совершилось…
Чаяния языков исполнились…
Как-то странно загорелись глаза епископа. Он встал и выпрямился во весь рост. Взгляд его скользнул поверх головы отца Герасима и устремился куда-то в беспредельную заочную даль. Казалось, там, в глуби седых веков, хотел он рассмотреть то, что совершилось, и поведать о том сидевшему перед ним священнику.
И вдруг почувствовал отец Герасим, что сейчас здесь с ним тоже что-то совершится.
И сама, казалось, природа поняла, что здесь, в этом убогом домике, сейчас решится тайна человеческой души, разрублен будет наконец тот мертвый узел, в который затянулась жизнь несчастного священника.
И поняла это природа и не смогла сдержаться: блеснула молния над разоспавшейся землей и раскатилась в небе громом.
Свет молнии ворвался в комнату и озарил ее.
Отец Герасим невольно вздрогнул, но на лице епископа не шевельнулся ни один мускул. Уже не скромным тоном собеседника, а властным проповедническим голосом, в котором звучали ноты торжествующей радости, епископ проговорил:
– Какая-то величественная и страшная великая тайна совершилась в одном пункте земного шара – в Иерусалиме, среди народа, и без того удивлявшего других своей странной историей. Что именно совершилось, это до сих пор в точности остается непонятным, неузнанным, непостижимым. Говорили, что появился великий пророк, властно учивший народ, творивший чудеса. За богохульство он был казнен по закону Моисееву, но потом пронесся слух, что он воскрес. Одни поверили, другие усомнились. Но и те и другие и вообще все евреи только до потрясения подивились всему происшедшему и начали было успокаиваться, а многие даже спешили позабыть эту тяжелую и непонятную историю, как вдруг небольшая кучка евреев из бывших учеников казненного пророка, до тех пор никому почти не известная, отделилась от евреев в самостоятельную общину и стала проповедовать о том, что распятый на кресте был не кто иной, как Сам Сын Божий, равный Богу, Сам Бог…
Вы поняли, конечно, что я заговорил о христианстве, – переменив вдруг тон речи и опустившись на стул, сказал владыка, обращаясь к отцу Герасиму. – Не правда ли, какая странная догматика этого учения? Мне думается, что если бы какой-нибудь шутливый человеческий гений задался целью нарочно составлять какую-нибудь философскую систему или какое-нибудь учение, все сотканное из самых необъяснимых тайн, из прямых противоречий человеческому уму, он не смог бы превзойти нашего догматического богословия. Тут что ни слово, начиная с учения о Троице и кончая лампадкой перед иконой, все только одни противоречия обыкновенному, здравому, незасоренному человеческому уму. Напрасно наши лучшие философские и богословские умы стараются с энергией, достойной лучшего дела, устранить эти противоречия и примирить христианство с разумом. Все их ученые и многолетние труды разбивает порой одним каким-нибудь «каверзным» вопросом простой мужик-сектант. Вам не приходилось видеть, как краснеют иногда наши миссионеры – магистры богословия, выходящие на беседы с сектантами-рационалистами во всеоружии своей науки и не могущие ответить на вопросы не богословского, а простого мужичьего детского ума? Не говорю уж о представителях естественных наук. Им христианство представляется настолько противоречивым здравому уму, что они перестали и говорить о нем. А некоторые великие умы, которые не желают все-таки расставаться с христианством, как, например, наш Л. Н. Толстой, чтобы хоть как-нибудь избавиться от этих противоречий, решили просто совсем порешить с догматикой и стали говорить, что ее выдумали люди (иерархия), а в действительности Сам Христос ничего подобного не говорил. Неправда. В нашей догматике нет ни одного слова лишнего. Она есть полное раскрытие, путем строго логических умозаключений, подлинного учения апостолов, передавших в точности подлинные слова Христа. Если теперь христианство находят противоречащим здравому уму, то ведь первые люди, услышавшие его, выразились о нем еще крепче: они называли это учение «безумием». Тогда, значит, оно еще более противоречило здравому уму. И вот, несмотря на это, оно было принято людьми, распространилось почти по всему лицу земному и теперь уже насчитывает двадцатый век своему существованию. Для многих тут загадка. А в сущности-то, дело очень просто. Разве в жизни мы принимаем только то, что очевидно для нашего ума? Часто совсем наоборот: принимаем и признаем за истину то, что совсем нам непонятно. Колумб сколько ни доказывал европейцам, что должна существовать Америка, никто ему не верил, а когда он съездил и привез новые вещи и новых людей и поставил их перед европейцами, тогда они должны уж были поверить, что есть действительно новая земля. Скажите деревенской старухе, что пар может возить, да еще быстрее лошади, поверит она вам? Но вот прошла через село железная дорога, и та же деревенская старуха, продолжая не понимать, как это пар возит, садится в вагон и соглашается, что пар может возить. Многие ли знают устройство телефона и многим ли понятно действие электрического тока, но это не мешает не смыслящим ничего в физике пользоваться услугами телефона, телеграфа и признавать существование электричества. Тут факт перед глазами; его можно не понимать, так или иначе объяснять, но отвергать нельзя.