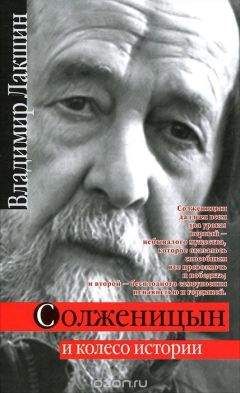Он договорить ещё не успел, я уже понял: ни за что не поеду! Вот из таких карусельных мероприятий и состоит жизнь писателя на поверхности... Недорогой способ нашли они показать меня Европе (да и какая там Европа собралась под крыльями Вигорелли!): в составе делегации, конечно единой во мнении, - а всякий выступ из общего мнения будет не только изменой родине, но ещё и предательством родного "Нового мира". Сказать, что действительно думаешь - невозможно. И рано. А ехать мартышкой - позор. Отклоня уже столько западных корреспондентов, должен был я свою линию вытягивать и дальше.
- Зря вы хлопотали, Александр Трифоныч. Меня совсем туда не влечёт ехать, да и несручно: я недавно из Ленинграда, я так мотаться не привык.
Вот тут и шла между нами грань, не перейдённая за все годы нашей литературной близости: никогда мы по-настоящему не могли понять и принять, что думает другой.
(По скрытости моей работы и моих целей он особенно не мог понять меня.)
А. Т. обиделся. (Всю обиду он выказывал обычно не враз, но потом в жизни возвращался и возвращался к ней многажды. Как, впрочем, и я.)
- Моя задача была - отстоять справедливость. А вы можете и отказаться, если хотите. Но в интересах советской литературы вы должны там быть.
Да ведь я ей не присягал.
Случился тут и Виктор Некрасов, недавно ошельмованный на мартовской "встрече" и уже несколько месяцев под партийным следствием в Киеве - и он, он тоже убеждал меня... ехать! Вот и ему ещё было столько непонятно, и нельзя объяснить...
Дружный внутренний порыв влёк их обоих в ресторан, а мне было легче околеть, чем переступить тот порог. Никак не решив, мы потянулись сперва на Страстной бульвар. Тут заметил я, как неумело и боязливо переходил А. Т. проезжую часть улицы ("Ведь эти московские перекрёстки такие опасные"). Да ведь он отвык передвигаться по улицам иначе, как в автомобиле... И седоку автомобильному нельзя, нельзя понять пешехода, даже и на симпозиуме. Стал А. Т. говорить, что симпозиум, конечно, будет пустой: нет романов, о которых хотелось бы спорить; и вообще романа сейчас нет; и "в наше время роман даже вряд ли возможен". (Уже начат был "Раковый корпус", уже год, как закончен был "Круг", но не знал я, в каком виде посметь предложить его Твардовскому. И вот так, со связанными руками и заткнутым ртом должен буду я сидеть на симпозиуме и слушать сорокоусто: умер роман! изжит роман! не может быть романа!..)
Грустно говорил А. Т. и о том, что на Западе хорошо его знают как прогрессивного издателя, но не знают как поэта. "Конечно, ведь у меня же мерный стих и есть содержание..." (Да нет, не в модерне дело, но как перевести русскость склада, крестьяность, земляность лучших стихов А. Т.?) "Правда, мои "Печники" обошли всю Европу" - утешался он.
Всё складывалось горько, и партийное следствие в Киеве, и упрямство моё туда же - и вырвались они от меня и пошли пить лимонад. Я проводил их как потерянных: такой у века темп, а им времени некуда девать.
На том не кончилось: ещё от того симпозиума пришлось мне из дому убегать, на велосипеде, не оставив адреса. Как в школу меня раньше директор вызывал, так требовало теперь правление Союза, телеграммы и гонцы: ехать и всё! Но не нашли.
(А Твардовский тот симпозиум использовал к делу: их повезли потом на Пицунду, на хрущёвскую дачу, и сослужил Лебедев ещё одну службу: подстроил чтение вслух "Тёркина на том свете". Иностранцы ушами хлопали, Хрущёв смеялся, - ну, значит, и разрешено, протащили13.)
После "Тёркина на том свете", пролежавшею (и перележавшего) 9 лет в готовом виде, девять лет вязавшего Твардовскому руки, - они теперь как бы освободились для риска. И осенью 63 года я выбрал четыре главы из "Круга" и предложил их "Н. Миру" для пробы, под видом "Отрывка".
Отказались. Потому что "отрывок"? Не только. Опять - тюремная тема... (Она же "исчерпана"? и кажется - "перепахана"?)
Тем временем нужно было им печатать проспект - что пойдёт в будущем году. Я предложил повесть "Раковый корпус", уже пишу. Так названье не подошло! - во первых, символом пахнет, но даже и без символа - "само по себе страшно, не может пройти".
Со своей решительностью переименовывать всё, приносимое в "Новый мир", Твардовский сразу определил: "Больные и врачи". Печатаем в проспекте.
Манная каша, размазанная по тарелке! Больные и врачи! Я отказался. Верно найденное название книги, даже рассказа - никак не случайно, оно есть - часть души и сути, оно сроднено, и сменить название - уже значит ранить вещь. Если повесть Залыгина получает аморфное название "На Иртыше", если "Живой" Можаева (как глубоко! как важно!) выворачивается в "Из жизни Фёдора Кузькина" - то это неисправимое повреждение. Но А. Т. никогда этого не принимал, считал это мелочью, а редакционные льстецы и медоточивые приятели даже укрепили его в том, что он замечательно переименовывает, с первого прищура. Он давал названия понезаметней, поневыразительней, рассчитывая, что так протянет через цензуру легче - и верно, протягивал.
Не столковались, и "Раковый корпус" не попал в обещания журнала на 64 год. Зато ввязался журнал добывать для меня ленинскую премию. За год до того все ковры были расстелены, сейчас это уже было сложно. (Ещё через два года всем станет ясно, что это - грубая политическая ошибка, оскорбление ленинского имени и самого института премий.)
А. Т. очень к сердцу принял эту борьбу, каждый лисий поворот Аджубея, выступавшего то так, то эдак. Правда, первый тур А. Т. не был на ногах, победа свершилась без него. Зато во втором он настойчиво взялся, рассчитывал внутрикомитетские тонкости (за кого подавать голос, чтоб иметь больше сторонников для себя.) В секции литературы голоса разделились совсем не случайно, а даже пророчески: за "Ивана Денисовича" голосовали все националы и Твардовский, против - все остальные русские. Большинство оказалось против. Но по статуту учитывались ещё и результаты голосования в секции драматургии и кино, а там большинство оказалось "за". Итак, в список для тайного голосования "Иван Денисович" прошел против голосов "русских" писателей! Успех этот очень обеспокоил врагов, и на пленарном заседании первый секретарь ЦК комсомола Павлов выступил с клеветой против меня первой и самой ещё безобидной из ряда клевет: он заявил, что я сидел в лагере не по политическому делу, а по уголовному. Твардовский, хотя и крикнул "неправда", был ошеломлен: а вдруг правда? Это показательно: уже более двух лет мы в редакции целовались при встречах и расставаниях, но настолько оставалась непереходима дистанция или разность постов между нами, что не было у него толчка расспросить, а у меня повода рассказать - как же сталась моя посадка. (Да вообще, ни одного эпизода тюремно-лагерной жизни, из тех, что я направо и налево рассказывал первым встречным, ни даже из фронтовой - не пришлось мне ему никогда рассказать. А он мне, хотя я наводил, не рассказал о ссылке семьи, что очень меня интересовало, а только - эпизоды литературно-чиновной, придворной жизни: как пятерым поэтам и пятерым композиторам Хрущёв поручил сочинять новый гимн; о случаях в барвихском санатории; о ходах редакторов "Правды", "Известий", "Октября" и ответных ходах самого А. Т. - обычно вяловатых, но всегда исполненных достоинства.) Теперь он за одни сутки, по моему совету, получил из Военной Коллегии Верховного Суда копию судебного заключения о моей реабилитации. (В век нагрянувшей свободы документы эти должны были естественно публиковаться сводными томами, - но они даже от самих реабилитированных были секретны, и путь к ним я узнал случайно, через встречу с Военной Коллегией.) Это заключение на следующий день Твардовский сумел эффектно огласить на заседании ленинского комитета перед тайным голосованием. Прозвучало, что я - противник "культа личности" и лживой нашей литературы ещё с годов войны. Секретарю ЦК ВЛКСМ пришлось встать и извиниться. Однако, уже запущена была машина. Утренняя "Правда" за два часа до голосования объявила: по высокой требовательности, которую до тех пор, оказывается, проявляли к ленинским премиям, повесть об одном лагерном дне, конечно, её недостойна. Перед самым тайным голосованием ещё отдельно обязали партгруппу внутри комитета голосовать против моей кандидатуры. (И всё равно, рассказывал Твардовский: голосов никому не собралось. Созвали комитет вторично, приехал Ильичёв и велел при себе переголосовывать - голосовать за "Тронку" Гончара. Уже неоднократный лауреат, и член комитета самого, Гончар тут же около урны сидел и бесстыдно наблюдал за тайным голосованием.)
Уже тогда, в апреле 1964-го, в Москве поговаривали, что эта история с голосованием была "репетицией путча" против Никиты: удастся или не удастся аппарату отвести книгу, одобренную Самим? За 40 лет на это никогда не смелели. Но вот осмелели - и удалось. Это обнадёживало их, что и Сам-то не крепок.
Над статьёй "Правды" в своём новом кабинете (зданье бывших келий Страстного монастыря) утром, перед последним голосованием, Твардовский сидел совсем убитый, как над телеграммой о смерти отца. "Das ist alles", встретил он меня почему-то по-немецки, и это кольнуло меня сходством с чеховским "Ich sterbe": ни одного иностранного слова не слыхивал я от А. Т. ни до этого, ни после. Ленинская премия для меня, о которой Твардовский бился, себя не жалея (и удивительно - не запил даже от поражения), - была престиж журнала, как бы орден, приколотый к его синеватой обложке14. Когда отказали, он рвался (впрочем, не впервь и не впоследне) демонстративно выйти - на этот раз из комитета по премиям. Но соредакторы и родные уговорили, что его задача - беречь и вести журнал. И конечно верно, не тот был повод.