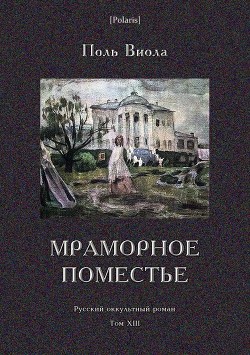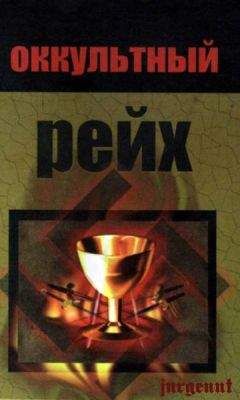— Разве ты умерла там?
О Боже! что он говорит!
— А что значит «Sono stanca», ты спрашиваешь?.. Это значит: «Я — Станка», но может иметь другое значение, потому что stanca значит «усталая» по-итальянски… А как же там написано: с большой буквы?
— Не помню…
— Ты не помнишь? Дай мне руки.
Он схватил мои руки и прижал их одну ко лбу, а другую ниже затылка, к шее. На лице его выразилось напряжение, и я заметила, что ресницы, во все время разговора изредка вздрагивавшие у него, теперь стали усиленно трепетать, глаза полузакрылись и лицо побледнело.
Сидя у моих ног, он в то же время тихо и нежно говорил:
— Ты теперь вспомнишь, Станка, да. Станочка, ты сейчас вспомнишь, не правда ли? Ты только немного подумай.
Я стала думать о мраморной плите с большим вырезанным крестом и мысленно восстанавливать начертание букв.
— Теперь я вижу, — говорил он глухим шепотом. — Вижу… Как тут красиво. Холмы, виноград, он такой темнопурпуровый, и цветы: белые астры и петуньи и что-то знакомое, знакомое, хочется не уходить оттуда.
Пока он это говорил, я чувствовала, как какая-то странная теплота уходит от моих рук к нему, а потом я совсем перестала чувствовать свои руки, они мне казались чужими.
— А вот и мраморная плита с крестом; написано «Sono stanca», теперь я вижу очень ясно: stanca маленькой буквой. Там за плитой, в холме, должен быть склеп. Дверь была когда-то с левой стороны под мостиком… Потом ее засыпали… Теперь она не видна… сейчас я увижу, что там внутри…
Я чувствовала, что слабею. Голова у меня кружилась.
— Пустите, — шепнула я и высвободила руки.
Он сидел некоторое время молча, опустив голову.
— Как вы можете читать мои мысли? Но ведь о склепе я ничего не знаю.
— Я не читаю твоих мыслей, Станка, я только, как бы тебе это объяснить… Я опираюсь на тебя, чтобы видеть. Ты мне помогаешь, а потому… Я очень утомил тебя, Станочка?
— Теперь, когда вы пустили мои руки, мне легче.
— Прости меня… Я всегда был виноват пред тобой.
— Я ведь простила вас…
— Почему ты говоришь мне «вы»? Разве ты больше не любишь меня, Станка?
Он поднял на меня свой странный, завороженный взгляд. Он редко смотрит прямо на меня и если смотрит, то долго: у него взгляд странный, точно приковывающийся к предметам, от которых ему трудно оторваться. Под этим взглядом я почувствовала, что должна сказать правду.
— Нет, я люблю вас с тех пор, как вы стояли надо мой тогда в опере…
Я сознавала и только тогда поняла, что это была правда, и в то же время чувствовала, что краснею, и опустила глаза.
— В опере, ты говоришь? Что это такое, опера?
О Боже мой! С ужасом я взглянула в эти завороженные, странные глаза, и на лице его мне показались мучительное усилие и беспомощность ребенка. Тогда с отчаянием в душе я схватила эту бледную больную голову безумца и прижала к своей груди.
— Ты болен! — вскрикнула я.
— Нет, я здоров.
Должно быть, жар был у меня тогда, потому что страшно потрясшая меня музыка «Пиковой дамы» опять стала звучать у меня в голове, образы путались, и ответ его показался мне словами Германа.
Несколько капель упали из моих глаз на его кудрявую голову.
Я почувствовала, что его руки обняли меня.
— Ты плачешь?.. Жалеешь?.. Благодарю тебя…
В тот миг, я не помню, говорил ли он эти слова, или это были звуки Чайковского.
Потом он говорил:
— Видишь, я не знаю, что это за слово «опера». Понимаешь, я мог бы вспомнить; но для меня это очень мучительно вспоминать… Я не хочу вспоминать, Станка, потому что это не я знаю, а другой знает… Я его не люблю, я хотел бы, чтобы он скорее умер…
— Кто умер? О ком ты говоришь? — вскрикнула я, чувствуя, что от ужаса и отчаяния за него я вся холодею и в то же время произношу слова Лизы.
— Ты понимаешь, я его не люблю, я только тебя люблю, Станка…
Вдруг он встал и, отступивши на шаг, со странной радостью воскликнул:
— Боже мой, какая же ты красивая, Станка, какая ты упоительно красивая!..
VIII
Когда он выпустил меня из своих объятий, странное бредовое состояние у меня прошло, и его радость мгновенно заразила меня. Я вся покраснела от счастья при этих словах.
В оранжерейке со стеклянным потолком и стенами было тепло и казалось светлее, чем в саду.
— Какие у тебя волосы, Станка, Боже, какие красивые!.. Что это за цветы?
— Хризантемы…
Я уже привыкла, что он не понимает некоторых слов.
— Хризантемы, — сказал он, задумываясь, — хризантемы… Какое красивое слово. Их нужно приколоть к твоим волосам.
— Приколите…
Он взял две пышных палевых хризантемы и приколол их к моим волосам на затылке с левой стороны, так что они свешивались мне на плечо.
— Вот видишь, теперь твои волосы цветут хризантемами.
— Разве можно так сказать?
— Да, можно… Цветут хризантемами… Цветут хризантемами, — повторил он, задумываясь, и прибавил: — палевым склоном на плечи… вот я сейчас напишу тебе все, ты увидишь, как это красиво выходит.
Схватив мою тетрадку, он стал быстро писать.
Когда он заговорил о цветах, о моих волосах, я забыла о его безумии, так странно, так быстро забыла и обрадовалась, потому что мне показалось, что он говорит, как здоровый человек, и забыла вдруг, как это странно любить его, чужого, незнакомого даже по имени. Мне захотелось только одного: посмотреть в зеркало, как он приколол хризантемы к моим волосам и «какая я красивая».
Я оглянулась и, заметив в глубине оранжереи на стойке несколько запасных стекол, подошла к ним. Они были плотно сложены и потому отсвечивали, как зеркало. Хризантемы он приколол так хорошо, как я сама никогда не сумела бы. Некоторое время я смотрела на себя, и мне казалось, что я действительно красивая и в первый раз замечаю это.
Может быть, я довольно долго смотрела, не знаю, но потом почувствовала какое-то недомогание, точно туберозы слишком сильно пахли. Я распахнула окно: резкий неожиданный порыв ветра ворвался, обвеял всю стеклушку, и в тот же момент ударил колокол собора.
Не знаю, почему удар был такой сильный (правда, собор — возле самого сада). Я вздрогнула и на несколько мгновений замерла, точно опасность угрожала мне, потом обернулась и сразу почувствовала, что что-то случилось.
Он стоял с моей тетрадкой в руке, а другой рукой потирал лоб. Глаза его странно моргали и щурились, точно от сильного света. Потом он посмотрел на меня; я чуть не вскрикнула, потому что увидела, что взгляд его опять так изменился, как тогда в театре. Я поняла, что он не узнает меня. С удивлением взглянул он в тетрадку, потом на меня, потом положил ее на скамейку и смущенно пробормотал:
— Извините, пожалуйста…
Он оглянулся, точно искал чего-то, потом, как бы вспомнив, выбежал из стеклушки и быстро ушел по направлению к университету. Я слышала, как он бормотал, пробегая мимо окна:
— Да, ведь я забыл свою фуражку в шинельной…
Я застыла у окна, чувствуя, как какая-то ужасная пустота вместе с надвигавшимися сумерками ползет на меня, чувствуя, что я не в силах с ней бороться… Как он осторожно положил мою тетрадку на скамейку, с той особенной заботливостью, как кладут чужую вещь, совершенно нечаянно попавшую в руки!
Но ведь он написал там что-то…
Какая-то полунадежда блеснула у меня. Я схватила тетрадку, но успело уже смеркнуться: прочесть нельзя было. На улице у фонаря я прочла:
Осень янтарными дышит поэмами:
Сладко-разлучные речи…
Волосы Станки цветут хризантемами
Палевым склоном на плечи…
Жадные галки проносят долинами
Грозное слово «расплата!»
Тополи держат сухими вершинами
Алое знамя заката…
Прошлое в сердце теснится свиданьями
В ярко-недвижимых масках,
Листья, мерцая, цветут увяданьями
В палево-пурпурных красках…
Осень янтарная дышит поэмами:
Сладко-разлучные речи…
Волосы Станки цветут хризантемами
Палевым склоном на плечи…