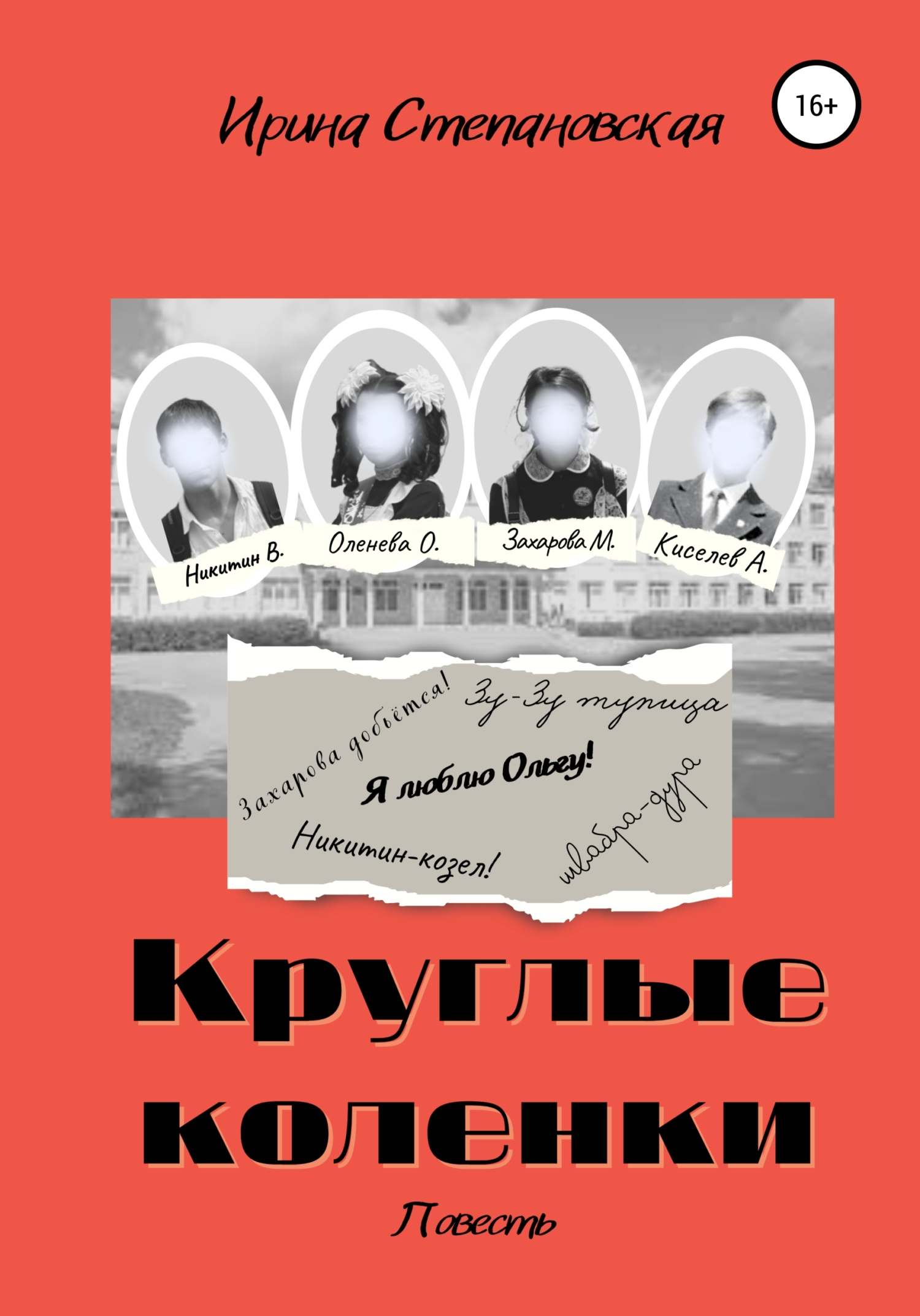кредит. Мы вместе лакомимся каждый своим. Томка – шоколадным тортом, я – крабами.
– Ты что? Это же Валя Синичкина. Неужели не помнишь? Она сменила фамилию, когда вышла замуж за Шурика Киселёва.
– Ах, ну, да… – Конечно, теперь я понимаю, о ком говорит Томка. Валя с Шуриком поженились после того, как Кисик стал лейтенантом – окончил военное училище. Они потом уехали вместе куда- то на Дальний Восток.
– Давай по коньячку? – предлагает Томка.
– По французскому? – нахальничаю я.
– Обижаешь, – пожимает плечами Томка и пальчиком, унизанным крупным перстнем, делает еле уловимое движение официанту.
Синичкину, в отличие от многих других, я тоже встречала в нашем городе несколько раз. После того, как Шурик вышел в отставку, они вернулись домой, к родителям. По- моему, уж если кому пошли на пользу круглые коленки, так это именно ей. Валя пополнела, но осталась по- молодому очаровательной. Её яркие глазки светятся неподдельным удовольствием, когда она рассказывает о Шурике, о своих троих уже женатых сыновьях, о нелёгкой в общем- то скитальческой жизни, об ушедших родителях, о том, кто, где и кем работает, о внуках… Впрочем, я не завидую ни ей, ни Томке, я не хочу копировать ничью жизнь, я только восхищаюсь её сохранившейся миловидностью и моложавостью, её заразительным оптимизмом.
– А ты знаешь, что Никитин хочет собрать всех на юбилей? – вдруг спрашивает Томка. Она уже доела свой торт, выпила коньяк и теперь пьёт кофе из крошечной фарфоровой чашечки, забавно оттопырив мизинчик.
– С чего это он? Дата не круглая. – Я точно знаю, что с Вовиком мы ровесники, а следовательно, ему должно исполниться столько же, сколько мне.
– О- о- ох, дорогая… – вздыхает Томка. – Столько лет уже в этом году со дня окончания школы!
Ах, это Вовик, оказывается, про школу?
Я не испытываю никакой ностальгии. Впрочем, мне кажется, что и Томка тоже.
– А где сейчас Никитин? – Я не видела Вовика давным- давно. Как- то не было желания встречаться после развода. Двадцать два уже моему Мише, а Вовик вовсе не его отец. Знаю только, что в наш город Вовик не возвращался.
– Никитин сейчас живёт заграницей, кажется, на Кипре. Давно женат. Нашёл себе то ли гречанку, то ли турчанку. Держит ресторан. Представляешь, он мне написал прямо в Совет Федерации. Ностальгирует, оказывается. Готов все организационные хлопы взять на себя. Ты хочешь с ним повидаться?
– Мне всё равно. Впрочем, я, наверное, не пойду на встречу.
– Почему?
– Ну, вы же тогда исключили меня из комсомола.
– Ой, Майка, брось. – Томка нисколько не краснеет. Она привыкла на своей работе решать сложные нравственные вопросы. – Если так разобраться, что мы могли сделать? Всем надо было заканчивать учёбу, всем надо было переходить в следующий класс. Тебе было хорошо, ты была отличницей, тебя бы всё равно взяли хоть куда, а вот то, что меня бы взяли в девятый – не факт.
Она помолчала, потом снова принялась размышлять, как бы вслух.
– Это был просто тактический ход. Те, кто любили тебя, до сих пор относятся к тебе по- прежнему, ну, а те, кто не любил… На всех мил не будешь.
Я спокойно доедала крабов. Мы были одни в этом уютном зале для VIPов. Верхний свет выключили, горели только бра и лампы на столах. Возле буфета на высоком узком столике таинственно мерцала огромная ваза с гладиолусами. Как- то Томкины слова не вязались с моими воспоминаниями.
Тактический ход… А ничего, что исключенным из комсомола полагался волчий билет? Ничего, что в десятом классе, уже в другой школе, мне пришлось вступать в этот гребаный комсомол снова? Ничего, что потом о дату вступления, зафиксированную в моем билете, спотыкались все комсорги, секретари всяческих ячеек? С изумлением они поднимали на меня глаза и интересовались: «А почему так поздно?» И я должна была врать что- то о какой- то несуществующей болезни, о том, что лежала в больнице и не могла вовремя вступить… Может быть это удивительно, но мне трудно врать, трудно изображать незамутненную чистоту помыслов, выдавливать улыбки, если мне хочется послать всех к чертям. В чем, собственно, меня подозревают?
В аспирантуре у меня появилась привычка скручивать в трубку носовой платок. Скручивать, расправлять и скручивать снова. Это чтобы не выступать против правил, когда кто- то с ясным лицом несёт ахинею, кто- то откровенно врёт, кто- то пускает пыль в глаза. Жизнь оказалась не школой. В школе я не плакала. В жизни пришлось, в ней законы оказались суровее. Но платок помогал…
Швабра вдруг подалась ко мне с тем самым видом, какой у нее был, когда она тыкала меня ручкой в спину. Я вдруг поняла, что если бы ей поменять прическу, она опять стала бы прежней, юной Томкой, у которой хищно загорались глаза при виде новых тряпок. Неужели годы изменяют нас только внешне, а внутренне мы такие же, как были в пятнадцать лет?
– Иссу же действительно кто- то заложил. Оленёва клялась, что у неё есть верные сведения, что это сделала ты. Хотя я всегда думала, что это не так. Я думаю, что это Зу- Зу…
– А тебя это так волнует? – Я и не подозревала, что Томка вообще помнит этот эпизод. У нее вдруг звонит телефон (не самой последней модели, кстати, и мне почему- то это приятно, что не самой последней). Томка отвечает. Тончайший аромат духов и запах хорошего кофе прекрасно подходит сейчас к сенатору Тамаре Александровне Швабриной и ее деловому виду. Хоть документальный фильм про нее снимай.
Она закончила разговор и посмотрела на свои дорогущие часы. «У вас часики позолоченные или же просто золотые?» – вспомнила я из Незнайки.
– Ну, ладно. – Было уже ясно, что Томка теперь мысленно где- то в другом месте. – Ты ещё сиди, у тебя самолёт не скоро. Заказывай, всё, что хочешь, а мне пора.
– Спасибо.
Она шевельнула пальцами в сторону официанта.
– Все запишешь на мой счёт. – Она собралась идти, а мне захотелось закричать, заорать, стукнуть кулаком по столу, но я молча проглотила последний кусок и тихо сказала:
– Тут ты ошибаешься, Томка. Иссу заложила как раз я.
Мне даже приятно было увидеть изумление на её лице.
– Ну, ты даёшь, Захарка!
– Коллективное сознательное часто бывает право именно своим бессознательным, – на мгновение я почувствовала себя снова за партой, и наша классная будто опять смотрела на меня с возмущением и с опаской. – Тебе, Томка, как руководителю масс, полагается это знать. Не ведая истины, вы все оказались провидцами, а Оленёва народным мстителем. Как это? Горящее сердце Данко и прочая хрень.
Она отодвинула чашку на столе, чтобы не закапать свой элегантный костюм, и снова присела к самому краешку.
– Слушай, я всегда считала, что Оленёвой ты вмазала справедливо.
– Что есть