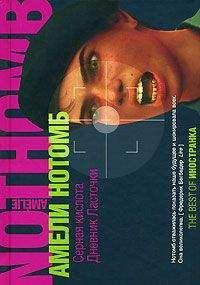Для этого достаточно быть невнимательным.
Невнимательностью я никогда не отличался. Наверное, это и значит быть Иисусом – кем‑то воистину присутствующим.
Мне трудно сравнивать. Я такой же, как все, в том смысле, что могу опираться лишь на собственный опыт. В том, что именуют моим всеведением, огромная доля незнания.
Факт остается фактом: не часто встретишь человека, который воистину присутствует. Моя тройка лидеров – любовь, жажда, смерть – учит и трем способам грандиозно присутствовать.
Когда влюбляешься, начинаешь присутствовать в невероятной степени. В дальнейшем рассеивается не любовь, рассеивается присутствие. Если хотите любить, как в первый день, нужно взращивать в себе присутствие.
Жаждущий присутствует настолько, что это даже тягостно. Тут и толковать не о чем.
Умирать – это совершать высший акт присутствия. Поражаюсь, какое неисчислимое множество людей надеются умереть во сне. Заблуждение их тем глубже, что смерть во сне отнюдь не всегда спасает от какого‑нибудь промаха. Зачем им промах в самый интересный момент своего существования? По счастью, никто не умирает, не осознав этого, по той причине, что это невозможно. Даже самый рассеянный человек внезапно возвращается к настоящему, когда наступает конец.
А после? Никто не знает.
Я просто чувствую, что я здесь. Кто‑то станет говорить, что это иллюзия сознания. Однако каждый замечал: мертвые присутствуют чрезвычайно ощутимо. Вера тут ни при чем. Когда кто‑то умирает, о нем удивительно много думают. Для немалого числа людей это вообще единственный момент, когда о них думают.
А потом все понемногу сходит на нет. Или не сходит. Бывает, люди возникают вновь с невероятной силой. Люди, о которых начинают думать через десять, сто, тысячу лет после их кончины. Разве можно отрицать, что это тоже присутствие?
Что хотелось бы знать, это сознательно они присутствуют или нет. Ведает ли умерший, что он здесь? Я полагаю, что да, но я ведь умер, и скажут, что я сужу по себе. Согласен, я не самый обычный мертвец.
Но опять же – не знаю. Я никогда не был другим мертвецом, только собой. Возможно, все мертвые так же ощущают свое присутствие, как я.
Вот что исчезает, когда умираешь, – это время. Как ни странно, это замечаешь только со временем. Единственной вещью, которая дает смутное представление о времени, становится музыка: не будь ее течения, мертвый совсем перестал бы понимать все быстротечное.
После нескольких песнопений меня положили в гробницу. Для многих погребение ужаснее самой смерти, и в этом страхе нет ничего нелепого. Умереть – почему бы и нет? Но какой кошмар, когда тебя запирают в склепе, да еще иногда с другими трупами! Кремация кого‑то утешает, а кого‑то пугает. Вполне объяснимая боязнь. Те, что вопят во все горло: “Делайте с моим телом, что хотите, мне плевать! Я буду мертв, какая мне разница”, видимо, не слишком хорошо подумали, прежде чем говорить. Неужели у них так мало уважения к частице материи, столько лет позволявшей им познавать жизнь?
У меня нет никаких предложений по этому вопросу; нужен какой‑то ритуал, вот и все. По счастью, ритуал есть всегда. В моем случае его совершили быстро – естественно, ведь речь о казненном. Где это видано, чтобы после казни устраивали похороны национального масштаба.
Меня очень осторожно и нежно завернули в плащаницу и положили в нишу в склепе, почти как на лежанку. Люди удалились и закрыли за собой дверь гробницы.
И тогда я пережил по‑настоящему головокружительный миг: меня оставили наедине с собственной смертью. Все могло обернуться очень плохо. Может, это оказалось так чудесно, потому что я – Иисус? Надеюсь, нет. Мне хочется, чтобы как можно больше мертвых пережили то же самое. Как только все кончилось, тут и начался мой праздник. Сердце взорвалось ликованием. Во мне зазвучала симфония веселья. Я лежал, открывая в себе эту радость, до тех пор, пока мог. Потом встал и начал танцевать.
В грудь мне хлынули самые величавые мелодии настоящего, прошлого и будущего, и я познал бесконечное. Обычно, чтобы понять красоту музыкального фрагмента и прийти в восторг, нужно время. Здесь мне было дано уловить возвышенное с первых же звуков. Мелодии были по большей части человеческие, но не все: они исходили от светил, стихий, животных, лились из других истоков, которые не всегда можно определить.
А еще в этой радости была своя механика: в наших переменах настроения взлеты, как правило, приходят на смену упадку. Но меня растрогало, что этот принцип компенсации работает и после смерти.
Когда склеп перестал вмещать мое ликование, я вышел наружу. Многие задавались вопросом, какое волшебство мне в этом помогло. Я не могу дать ответ: для меня это было совершенно естественно. Снаружи мне понравилось. Слушать после музыки тишину было упоительно, я отдал ей должное.
Было ветрено, я дышал полной грудью. Не спрашивайте, как мертвец может дышать. Думаю, объяснение в том, что люди с ампутированными конечностями продолжают их чувствовать. Я ни на миг не терял тех ощущений, которые того стоили.
Началась моя вечная жизнь. Для меня это общепринятое выражение тоже ничего значит: слово “вечность” имеет смысл лишь для смертных.
По поводу дальнейшего существует несколько версий. Моя такая: я гулял там, где мне хотелось, и потому встречал людей, которых любил. Опять‑таки, что может быть более естественным? У меня не было ни малейшего желания идти туда, где мне не нравится, или навещать тех, кто мне неприятен.
Чем объяснить, что меня видели и слышали? Не знаю. Случай не вполне обычный, но и не уникальный. Были в истории и другие, когда мертвых видели и слышали, да и дальше дело заходило. Были случаи известные и никому не ведомые. Задумай кто‑нибудь описать каждый опыт загадочных контактов с покойными, пришлось бы составлять целые адресные книги.
Взываю ко всем, подтвердите: любому, кто потерял дорогого ему человека, случалось переживать нечто необъяснимое. Кому‑то даже являлись совсем незнакомые люди. Воистину нет пределов тому, что называется жизнью.
Это не мешает и не помешает значительной части людей утверждать, что после смерти ничего нет. Меня от этого убеждения не коробит, разве что от его категоричности, и еще оттого, что его приверженцы кичатся своим умственным превосходством. Ничего удивительного. Чувствовать себя умнее другого – всегда признак ущербности.
Воистину говорю вам: я не умнее других. И даже не вижу, в чем смысл таких притязаний. У меня нет ни иллюзии равенства, ни иллюзии превосходства, обе эти вещи кажутся мне ненужными, достоинство человека нельзя измерить. Равным образом в том, что считается моим последним чудом, мне неизвестен залог – активный или