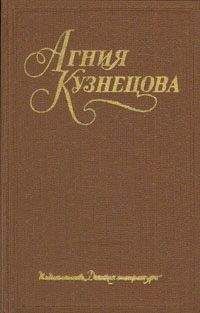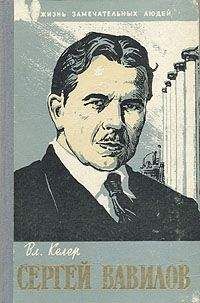И тотчас другое... Губастый, бледный лейтенант Анатолий, его дорожный спутник, лежит на полке в вагоне и, кашляя, неумело курит, подставив под папиросу ладонь, чтобы пепел не падал на сидящих внизу.. И вот они за большим столом, в городской квартире, в этом же Сталинграде, где-то на северо-восток от стеночки, где он сейчас лежит, и насмешливые, сердящие его глаза смотрят, спрашивают. И два старика, один хмурый, черный, другой лобастый, с толстым носом, и толстая военврач с майорскими шпалами, и темноглазый, дёргающийся парень, у которого он списывал стихи, смотрят на него.
И тревожное чувство раздражённого и неуверенного превосходства над этими привлекательными, милыми людьми коснулось его.
Ах, если бы та красивая, с белой шеей, поглядела сейчас, она бы поняла, почему он так затосковал, затомился, стал ругаться — ведь о смерти, ни о чём другом разговор, зачем же эти насмешечки и шуточки; «такой приказ — защищать давно есть». Эти взгляды, словно он мальчик, эти вопросы, чтобы ему удобней и приятней отвечать... Конечно, он жил в деревне, он только школу лейтенантов кончил, он еще молодой совсем.
Его чистая душа была воистину детской душой, ведь возраст его, и опыт жизни, и ясная вера, и сомнения, и мечты, и тревоги, и грубость — всё в нём было отроческим, юным. И в эти минуты он переживал горькое, безжалостное исполнение своей мечты, ощутил, что не только перед самим собой, перед своими земляками, перед мамой и девушкой, писавшей «место марки целую жарко», но и перед всем огромным светом, перед миром всех людей, и не только друзей, но и врагов, он, тот самый суровый и сильный, каким хотел видеть себя, когда, нахмурив белые брови и загадочно сощурив глаза, смотрелся перед сном в маленькое карманное зеркальце, обклеенное красной шершавой бумагой.
И для того, чтобы поделиться с кем-нибудь своим чувством и сохранить его среди людей, Ковалёв вытащил из сумки тетрадь, пощупал пальцами фотографию, завёрнутую в целлофановую бумагу, мельком взглянул на стихи, записанные красивым, жемчужным почерком, записанные каким-то другие человеком, а не им. Он вырвал лист бумаги и стал писать донесение.
« Время 11.30.
Донесение
Гвардии ст. лей-ту Ф:иляшкину. 20.9.42 г. Доношу — обстановка следующая:
Противник беспрерывно атакует, старается окружить мою роту, заслать в тыл автоматчиков, два раза пускал танки через боевые порядки моей роты, но все его попытки не увенчались успехом. Пока через мой труп не перейдут, не будет успеха у фрицев. Гвардейцы не отступают, решили пасть смертью храбрых, но противник не пройдёт нашу оборону. Пусть узнает вся страна 3-ю стрелковую роту. Пока командир роты живой, ни одна б... не пройдет. Тогда может пройти, когда командир роты будет убит или совсем тяжело ранен Командир 3-й роты находится в напряженной обстановке и сам лично физически нездоров, на слух оглушён и слаб. Происходит головокружение и падает всё время с ног, происходит кровотечение с носа, несмотря на всё, 3-я гвардейская рота не отступает назад. Погибнем героями за город Сталина. Да будет им могилою Советская земля. Надеюсь, ни одна гадина не пройдёт, 3-я рота отдаст всю свою гвардейскую кровь, будем героями освобождения Сталинграда».
Подписав донесение и сложив листочек вчетверо (пока он писал, беленькая бумажка стала черно-рыжей от мазавшей по ней ладони), Ковалев подозвал бойца Рысьева и сказал:
— Снеси комбату!
Потом он вынул металлический медальон, повешенный ему на грудь заботой старших, на случай тяжелого ранения или смерти, и поверх официальных сведений о фамилии, звании, должности, части, адресе и составе крови, написал:
«Тот, кто осмелится изъять содержимое этого медальона, того прошу направить по домашнему адресу. Сыны мои! Я на том свете. За кровь мою отомстите врагу. Вперёд к победе и вы, друзья, за Родину, за славные сталинские дела!»
Он не знал, зачем написал сыновьям, которых нет, ведь он и женат не был. Но так нужно было. Память о нём — суровая, честная память — должна надолго остаться, он не хотел считаться с тем, что война оборвет его жизнь, что он не узнал и не узнает отцовства, не станет мужем своей жены. Он писал эти слова за несколько минут до смерти, он боролся за свое будущее время, он не хотел подчиниться смерти в двадцать лет, он и здесь хотел поупорствовать, победить.
Рысьев вернулся с командного пункта батальона. Он сам не понимал, как его не убило.
— Никого там нет, товарищ лейтенант, некому вручить донесение, все убитые, и связного ни одного не осталось, — сказал: он.
Но и Ковалёв не принял у него обратно донесения, он лежал мёртвый, навалившись грудью на свою полевую сумку, заряженный автомат лежал у него под рукой.
Рысьев лёг рядом с ним, взял автомат, немного отодвинул плечом тело Ковалёва: видно, немцы опять готовились, собирались кучками, перебегали за сгоревшими танками, махали руками, а где-то сбоку уже к звукам разрывов примешивалось тырканье их автоматов.
Рысьев подсчитал гранаты и оглянулся на Ковалёва: между бровями на лбу его видна была короткая тёмная насечка .. ветер шевельнул его светлые волосы, а лёгкие ресницы, чуть опущенные, прикрывали глаза; он глядел в землю мило и лукаво, улыбался тому, что знал он один, тому, что уж никто, кроме него, не узнает.
«По переносью... сразу», — подумал Рысьев, ужаснулся быстрой смерти и позавидовал ей.
Из командиров, пришедших два дня назад на вокзал, Ковалёв был убит последним.
Младший командный состав был также почти целиком выведен из строя.
Старший сержант Додонов, подавленный страхом, отлёживался, на него никто не смотрел, никто не обращался к нему.
Старшину Марченко тяжело контузило тем же снарядом, которым был убит Ковалёв — он лежал неподвижно, и кровь текла у него из носа и ушей.
Но и после гибели Ковалёва красноармейцы продолжали вести огонь по немцам. В бою, шедшем до этого часа, Конаныкин, Филяшкин, Шведков, Ковалёв, политруки, комвзводы стреляли, как рядовые красноармейцы, — и это было естественно и законно. После их гибели принял команду рядовой красноармеец — и это также было естественно и законно.
В обычной жизни немало людей являются скромными, непроявленными вожаками. Об их душевной силе знают те, кто соприкасается с ними в труде, ее чувствуют, на неё оглядываются, но часто о ней и забывают. Есть две ценности человеческого характера — одна в умении быстро, толково и правильно понять изменения жизненной поверхности, вторая ценность в духовной, неизменной и упрямой глубине.
В те времена, когда драма раскрывается не на поверхности, а в глубинах человеческих душ и сердец, — такие люди выступают вперёд, и их скромная сила становится явной.
В бою с завоевателями горсти окружённых красноармейцев, людей, для которых в грозный час единственной действительностью стало простое в жизни, добро мирных, трудовых людей и ополчившееся на это добро кровавое зло поработителей, для людей, ответственных в этом простом и главном перед своей собственной совестью, Вавилов стал человеком не менее сильным, чем сам командующий армией.
Вавилову и в мирные времена приходилось в работе становиться старшим, приказывать, указывать и советовать, случалось это и на пахоте целины, и в лесу, когда артель лесорубов валила сосновые стволы, и в ветреный осенний день, когда отбивали от огня горевшую деревню.
Само собой получилось, что бойцы стали оглядываться на него, а потом лепиться к нему. Никто не таил сухарей в карманах и воды в баклажках, когда он велел поделить их.
Вавилов разбил красноармейцев на группы, и так как он знал слабость и силу людей, с которыми вместе шагал и ел хлеб, людей, не таивших от него ни своей силы, ни слабости, он безошибочно поставил вперёд тех, кому надлежало по праву быть старшими.
Он ещё больше сузил, сжал круг обороны и посадил людей там, где стены прикрытия были особенно толсты и откуда видней всего были немцы.
Сам он остался с Резчиковым, Усуровым, Мулярчуком и Рысьевым в центре обороны и выбегал на поддержку к тем, на кого немцы оказывали главный нажим.
Он оставил резерв патронов, дисков, гранат и запалов, посадил пулемётные расчёты за толстым бетонированным брандмауэром, который прошибало лишь самым тяжелым снарядом.
За эти короткие дни красноармейцы постигли жестокую мудрость городского боя, они поняли смысл штурмовой боевой артели, как понимали трудовую артель, определяли размеры её и закон её силы. Сила была в каждом отдельном бойце, но отдельная сила имела значение лишь в артельности бойцов.
Люля взвесили и измерили ценность своего оружия и на первом месте утвердили ручную гранату «Ф-1», автомат, ротный пулемёт. Они узнали боевую силу сапёрной лопатки.
Резчиков, ставший на марше мрачным и унылым, сейчас, непонятно отчего, снова ободрился. Рассудительный и ни разу не поддержавший похабного разговора Зайченков проявил злое, безрассудное озорство и матерился после каждого слова. Усуров, готовый поскандалить по любому поводу, жадный до еды и до предметов, стал покладистым, щедрым, отдал половину табака и хлебный паёк Рысьеву. Но особо резко, казалось, изменился Мулярчук. Квелый и, как многим представлялось, бестолковый человек стал неузнаваем. Даже лицо его изменилось, морщины на лбу, придававшие ему выражение недоумения, залегли сердитой складкой, поднятые белые брови стянулись к переносице, потемнели от пыли и копоти. Дважды зажал его в окопе немецкий танк, дважды выполз он из окопа и с немыслимо короткого расстояния сокрушил врага фугасной противотанковой гранатой.