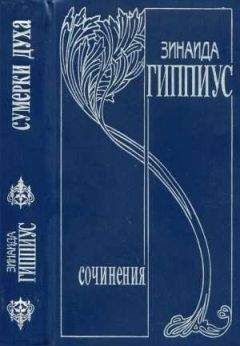Теперь омут, ива и высокий берег под нею были освещены тихими, пронзительными лучами луны. Марфуша перевела туда глаза – и вздрогнула: между высоких, гнущихся от росы трав, полускрытая ими, сидела недвижно темная фигура.
Аркадий тоже заметил ее и глухо откашлялся, желая что-то сказать. Но испуганная Килина предупредила его и зашептала:
– Батюшки, родители! Да ведь это мадам наша зловредная! Ай-ай-ай, родненькие! Сидит над омутом и не шелохнется. Колдует, проклятая, ей же Богу!
– Чи ж я не говорила? – со спокойным достоинством произнесла хохлушка Катря.
Марья-прачка, из храбрых, предложила:
– А ну-кась, зайдем ей с заду. Не услышит. А оно виднее. Шепчет ли она что, или как…
– Боюсь… Боюсь… – шептала нежная Килина, повисая на руке Аркадия, однако пошла охотно.
Аркадий пожимал плечами. Он чувствовал, что надо дать понять, насколько он, образованный петербургский человек, далек от всех этих «глупостей» и не верит в них. Но слишком уж ночь была ярка и странна, слишком неподвижно сидела старуха в траве над омутом, откуда на нее глядел пристально месяц. И скептические слова на этот раз у Аркадия как-то не выговорились.
– Смотрите, простоволосая! – шептала Марья. – Нонче месяц неполный, да и не пятница, она нонче на гору не поскачет. Ишь, сидит, уставилась. Непременно она, миленькие, водяную нечисть там видит. Глядите, глядите! И головой качает, и губами шепчет…
Они были совсем близко от ивы и от старухи. Она точно покачивала ослабевшею головой на тонкой шее, не отрывая глаз от воды.
Марфуша смотрела жадно. Сначала в душе промелькнула печаль, что вот – она сидит одна, ночью, на росистой траве, больная, не смея уйти. Но фигура старухи была пряма, почти надменна, лицо выражало спокойную торжественность, ожидание без тревоги. И Марфуша забыла о жалости, неясная зависть прокралась ей в сердце. Вот они тихо, как воры, подсматривают за ней, не понимая, и все-таки ничего не видят, потому что им не дано. А она наверно видит. Какое чудесное, небывалое, нескучное видит она в небесной глубине, опрокинутой на дно озера! Оттого она и не боится без людей, а все боятся без других людей – и Марья, и Катря, и даже Аркадий… Марфуша приглядывалась к водяному стеклу, стараясь и надеясь хоть что-нибудь увидеть, хоть зеленую прядь волос, хоть бледную руку русалки… Она невольно произнесла в уме с искренностью и простотой: «Господи, дай увидеть… Сделай, чтоб я была достойна»… И сейчас же с ужасом спохватилась: «Что это я? О чем Богу молюсь? Ах, я грешница… Ведь это же нечисть, этого нельзя…»
И она принялась, под сдавленные восклицания прачки Марьи и Аркадия, твердить себе, что она грешница и что это все «нечисть».
«Надо в церковь чаще ходить, – вразумительно говорила она себе. – А это все надо ненавидеть».
Она в последний раз обернула глаза к неподвижно сидящий старухе под ивой, залитой желтым месячным светом, и почувствовала, что не ненавидит ее, а любит. И она опять испугалась, потому что и Бога, – она знала это твердо, – она тоже любила.
А с неба все так же пронзительно и широко лились месячные лучи, углубляя тишину.
VI
Барыня поздно вечером слышала шаги под окном, Килина тоже, сам Петр Васильевич обратил внимание на неистовый лай собак и, выйдя, заметил чью-то мелькнувшую тень с длинной палкой. Опасались воров, которые недавно поблизости ограбили хутор. И барыня настояла, чтобы прибить цепи к дверям и чтобы кучер Феогност, отличающийся необыкновенной силой, спал не в конюшне, а в доме, в передней, примыкающей к столовой и ее комнатам.
Феогност покорился без рассуждений и каждый вечер стал приносить в прихожую тонкую, как блин, стелюшку и устраивался на рундуке.
Он еще не гасил лампы и не ложился, когда в один из вечеров к нему в переднюю тихонько скользнула Марфуша из боковой двери.
– Вы, дяденька, не спите еще?
– Заснешь тут, – невольно проворчал Феогност, стараясь умерить свой бас до шепота. – Галдят, разорвало их, все уши прожужжали.
И он кивнул головой по направлению столовой. Оттуда, из-за неплотно притворенной двери, действительно доносились раздраженные возгласы, порой переходившие в крики.
– Ведь это никак барин с барчатами, – проговорила Марфуша. – Сама-то спать улеглась. Гувернантки тоже нет, у себя давно, – прибавила она. – Да о чем это они?
– А вот слушай да разбирай. Шут их дерет. Марфуша присела на рундук и стала прислушиваться.
Разглагольствовал Петр Васильевич, гуляя, как всегда, по комнате с сигарой. Слова его доносились очень явственно.
– Таким образом, Поль, вопрос о твоем будущем выяснен. И прошу кончить с возражениями! Кончить! Я всегда лелеял мечту, что мой сын пойдет по дороге, по которой не удалось идти мне, что мой сын проникнется убеждениями, идеями, которыми я мучился, горел, жил! Я мог, уступая капризам больной твоей матери, оставлять тебя в правоведении, пока ты был мал. Теперь кончено. Ты переведешься в университет, а затем, по окончании, тебе готово место в земстве. Здесь надо служить, здесь надо работать, здесь приносить пользу… Я сам думаю выйти в отставку. Лучше трудиться, как поденщик, в поте лица есть хлеб, чем получать деньги ни за что! И трудись, и все будем трудиться, трезво смотря на жизнь. Я и содержать тебя в правоведении больше не в силах. Мы, слава Богу, не капиталисты какие-нибудь. Я всегда этим гнушался. Авиловку, последнее имение, продадут…
– Как?., папаша… – прервал его вдруг голос дочери. – И это имение тоже? Я не знала… que nous sommes la[9], – прибавила она с легкой насмешливостью.
– Да, матушка, продадут, продадут! – раздраженно подхватил Петр Васильевич. – Никаких компромиссов! Поль должен знать, что служба, которой он себя посвятил (место ему даже сейчас готово, но пусть кончит университет), тяжела, неблагодарна, но зато это – путь честного труда, общественной пользы… И ты, матушка, изменишь жизнь. Я пренебрег твоим воспитанием, я допустил в дом этого паразита Сиверцева, прогнившего аристократа… Нет, вы меня еще не знаете. Я верю только в объединяющую любовь к человеческой пользе…
– Я не думал, папаша, что вы такой либерал, – осторожно заметил Поль. – Конечно, это все очень верно, но я твердо надеюсь, что вы сами не покинете вашей службы. Она нисколько не мешает вам приносить пользу… И даже относительно нас… я думаю, что я, например, мог бы с успехом кончить свое образование в училище, где его начал…
– Никогда! – взвигнул Петр Васильевич. – Если бы я и остался на службе, ты, ты должен чтить убеждения отца, ты должен…
– Нет, папа, – тоже с раздражением в голосе начал Поль. – Позвольте вам сказать, вы не имеете…
Он вдруг замолк, оборвав на полуслове, точно его остановил кто-нибудь тайным движением руки. Голоса Али не было слышно.
К счастью, Петр Васильевич не заметил возражения сына. Он понесся дальше, раздражительно крича и кашляя.
– Я, дяденька, слушаю и все-таки не пойму: из-за чего они спорят-то? – шепотом обратилась Марфуша к Феогносту.
– То-то, что глупа ты, – проворчал Феогност. – А я уж ко всему этому весьма попривык. Не слышишь разве? О каше спорят.
– О каше?
– Ну, а то о чем же? Барин-то кричит сынку, чтоб он себе сам кашу варил, а сынок-то, значит, желает, чтоб ему эту кашу сварили. Во-те и все.
– Да это, дяденька, на одно же выходит. Кто там ее ни вари, а все из-за каши они только и вздорят?
– Из-за каши, это верно, из-за ее одноё. Другого понятия-то нет. Ох, Господи! Черви ползучие!
Они помолчали. Крики за дверью продолжались, но ни Феогност, ни Марфуша уже не вслушивались.
– А что я погляжу на тебя, девка, – начал Феогност. – Сильно ты с лица спала. Болезнь, что ли, в тебе али что? Ни этого, значит, румянца – ничего. Трость тростью. Глазищами только ворочаешь. Что это ты, а?
– Да ничего, дяденька, я здорова. А только… скучно мне, дяденька. Ох, как скучно! Однажды вы тоже об этой самой скуке говорили. И вспало мне на ум… И все думаю, и все мне тошнее да скучнее…
– Гм… Ишь ты, девка… – проворчал Феогност. – Что ж? – прибавил он как-то нерешительно и без всякого увлечения, – ну, замуж ступай. Авось повеселеешь.
Марфуша всплеснула руками и с укоризной взглянула на Феогноста.
– Дяденька! Прежде вы не так говорили. Что замуж? Я Аркадия очень люблю, он хоть и молод, а какой дельный. Да и человек хороший. А только… скучно, дяденька. И так живу, и замужем – все одна скука. Ведь одну землю-то буду топтать и замужем. Чему ж радоваться-то?
Феогност, казалось, был смущен. Он крякнул, почесал в затылке, потом вдруг, точно решившись, заговорил:
– Верно ты, дочка, рассуждаешь. Вот как верно. Скука, она, матушка, неизбытная. Экую скуку Господь сотворил! Сила! Тут не то что замуж, тут вот соберись сейчас народ, наряди меня в золотую митру, почни кричать: условляемся мы, Феогност, чтобы ты от века был фон-пере-фон-маршал-гоф-раван его светлейшее возвышение, и даем тебе над нами, человеками, власть жизнеотнимную. И вот мне на это решительно наплевать. Потому черви ползучие и решительно им не дано. Скука-то, Господи милостивый!