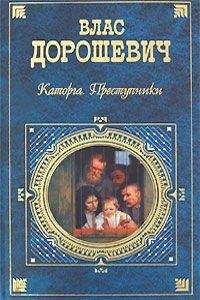— Я думал и об этом. Конечно, при встрече я бы ничего не сказал! Этикет остаётся этикетом. Конечно, я бы поклонился!
— Ну, ещё бы! Не поклониться это было бы чересчур жестоко по отношению к принцессе.
— Но я сумел бы поклониться! Она поняла бы всё и без слов.
И мой друг много раз, — несколько месяцев, — репетировал этот поклон.
Хорошо, что поклона не состоялось! Он убил бы принцессу.
Мой друг встретил её. Она шла под руку с мужем.
— И вы знаете! — говорил он мне. — Во взгляде её было столько страдания. Конечно, она и виду не подавала.
Она старалась улыбаться, она заставляла себя болтать, но я-то понимал, что это за улыбка! И я… я не сделал своего поклона!
Мне всегда хотелось на этом месте рассказа пожать руку великодушного человека.
— Напротив! Я поклонился с лицом, полным грусти!
— И вы не видели её, не говорили с ней? Я думаю, одно ваше слово утешения…
— Это было — увы! — невозможно! Ревнивец не оставлял её ни на минуту.
Дело чуть было не дошло до дуэли.
О, это было страшное происшествие!
Принцесса, — теперь уж «герцогиня».
Нет, надо слышать моего друга, как он произносит это.
— «Герцогиня!»
Герцогиня ехала в Болье, и герцог на платформе отошёл от жены на несколько шагов.
Конечно, мой друг был около неё.
Поезд как раз подлетал.
Они стояли на самом краешке платформы.
— Герцогиня, осторожно! — воскликнул мой друг. — Не упадите под паровоз!
Герцогиня кинула на него взгляд, полный ужаса, — и в это время мой друг почувствовал жгучую боль в пальцах левой ноги.
Герцог наступил ему на ногу и, — до чего доводит ревность! — даже не извинившись, словно не заметил, сказал:
— Осторожнее, мой друг. У меня вчера украли портмоне из кармана. Здесь много воров…
— Кровь бросилась мне в голову! — рассказывает мой друг. — Но я увидал взгляд, полный испуга, который устремила на меня принцесса…
Он не хотел называть её «герцогиней».
— …Я понял этот взгляд. Я сдержался. Я повернулся. Я уехал из Ниццы!
Так кончился этот роман.
Мой друг женат. Он женился на дочери своей прачки.
Вот чего я долго не мог понять!
Но он часто мне говорит тихо, почти на ухо, когда жена бывает в духе:
— Смотрите, замечаете вы эту улыбку? Решительно, в ней есть что-то похожее на улыбку той.
И я понимаю, почему мой друг женат на этой женщине.
К сожалению, она редко даёт ему возможность полюбоваться сходством с «тою».
Жена моего друга редко улыбается.
Главное её занятие — ругать мужа. И история с принцессой особенно приводит её в неистовство.
Мой друг имел печальную неосторожность рассказать ей эту деликатную историю.
Когда жена моего друга приходить «в раж», она кричит на своего мужа:
— Я тебе не принцесса какая-нибудь досталась! С принцессами только умеешь шуры-муры строить!
И я думаю, что если бы этим двум женщинам пришлось когда-нибудь встретиться, — это кончилось бы плохо для принцессы.
К счастью, они никогда не встретятся.
Нет, какие истории, однако, разыгрываются в Ницце! Истории, о которых никто не подозревает! О которых не подозревают даже сами принцессы Астурийские!
Целый город дурачится.
По улицам маски, домино, пьеро, коломбины, арлекины.
В воздухе град белых алебастровых конфетти.
На главной площади Massena[40], под шутовской триумфальной аркой, колоссальная фигура Карнавала.
Добавьте к этому тепло, весну, голубое небо, яркое солнце, пальмы, цветы.
Какой контраст после кислого Петербурга или нахмурившейся Москвы.
Карнавал не привился к нашей жизни.
Ещё Пётр хотел ввести веселье административным порядком.
— С такого-то по такое-то число быть всем весёлым.
Но из всех реформ эта не удалась больше других.
Даже в административном порядке мы оказались народом невесёлым.
Итак, над целым городом — весёлая власть Карнавала XXXI.
Не знаю, может быть, это потому, что немцы наводнили Ривьеру. Но только и Карнавал онемечился.
Карнавал XXXI держит в руке бокал шампанского. Но лицо у него немца, до краёв налитого пивом. Настоящие швабские усы.
Карнавал представляет собой довольного, сытого, раскормленного буржуя. Самодовольное, сияющее самодовольством, плоское пошлое лицо.
У него, прямо обожравшийся вид.
Он глядит с высоты, торжествующий, наглый.
— Вот по чьей дудке вы нынче пляшете!
Арлекин, на котором он едет верхом, превосходен.
Положительно, это произведение недюжинного художника.
Длинному, узкому лицу Арлекина он придал что-то дьявольское.
Арлекин смеётся зло, умно, презрительно и с какой-то жалостью, прищурив умные глаза, смотрит на беснующуюся, пляшущую, кувыркающуюся толпу.
При виде этой смеющейся морды мне вспомнился один из сонетов Бутурлина:
…«Как ты жизнь и людей глубоко презирал,
Арлекино, мой друг!»
Он смотрит так на дурачащихся кругом, пёстрой толпой заполнивших всю площадь людей, — словно видит сквозь маски.
Кругом вертлявые паяцы, беснующиеся коломбины, прыгающие пьеро, а он видит петербургских средних лет чиновников, английских мистрисс с лошадиными зубами и фабрикантов усовершенствованных подтяжек.
Вот летят, пляшут под звуки «il grandira»[41] из «Птичек певчих», — два клоуна, паяц, какая-то резвушка — домино.
Они заметили вертящегося на одной ноге пьеро.
Окружили.
Белая пыль столбом.
Град confetti.
Пьеро завертелся, завизжал, как поросёнок. Зацепил жестяным совочком confetti, ловко запустил их прямо в рот хохочущему домино.
— Счастливые дети юга, солнца, весны! — думаете вы.
Резвушка-домино взвизгнуло:
— Shocking!
Но и с ловкого пьеро слетела маска.
Перед вами красное жирное лицо с напомаженными усами вверх. Словно двумя штопорами он хочет выколоть себе глаза.
Град confetti посыпался на него с особой силой.
Кругом крики, хохот, визг.
Он закрыл толстыми красными пальцами жирное, красное лицо:
— Ah! Meine Herren…[42]
Арлекин смотрит на него прищуренными глазами, со злой улыбкой на тонких губах:
— Пари, что это фабрикант усовершенствованных подтяжек?
Они являются сюда, чтобы играть «в детей».
Если вы вырветесь на минуту из этого вихря confetti и подниметесь передохнуть на балкон casino, — вид перед вами необыкновенный.
Вместо площади — разноцветное, пёстрое море, которое волнуется, кипит, шумит, ревёт.
Водоворотом кружатся синие, жёлтые, красные, зелёные костюмы.
Среди этих водоворотов медленно движутся процессии.
Вот на гигантском омаре едет madame Карнавал с моноклем и наглым взглядом кокотки.
Взвился в воздух колоссальный осёл, и двое колоссальных крестьян с глупейшими, испуганными лицами беспомощно машут в воздухе руками.
Проезжает колоссальная римская триумфальная арка. Курятся жертвенники перед статуями богов. Жрецы, матроны, сами статуи богов на пьедестале пляшут канкан.
Качается на огромных качелях колосс-Гулливер с лилипутами детьми.
Лилипуты его все перевешивают.
Гулливер рыжий.
— Вот англичанин и буры! — кричит кто-то.
Между кулаками с огромными головами драка.
Карикатурный полицейский заглянул в несгораемый шкаф.
В шкафу оказался «lanin».
Тереза Эмбер налетела на полицейского, ударила его по затылку:
— Не любопытствуй!
И между огромным Фредериком Эмбер, целой Эйфелевой башней — Евой Эмбер, Терезой и партией колоссов-полицейских затевается драка.
— Браво, Тереза! — кричат кругом.
— Положительно она приобретает всеобщие симпатии.
Полицейские смяты, подхватывают товарища, у которого болтаются руки и ноги, и отступают.
Тереза захлопывает несгораемый шкаф и победоносно командует:
— Вперёд!
Жест такой, словно:
— Правда в ходу, и ничто не может её остановить!
Ураган восторженных криков. «Семья» засыпана confetti.
А кругом пляшет, крутится, вертится в дыму белой пыли, вихре confetti пёстрая, разноцветная толпа, но всё это иностранцы, в лучшем случае, парижские буржуа, играющие «в детей».
Сами «дети юга», — Ницца, — стоят в стороне от всего этого празднества, хмуро, мрачно и озлобленно.
Франция становится плохим местом для веселья. Ницца — в особенности.
С каждым годом наплыв иностранцев, едущих во Францию повеселиться, всё растёт и растёт. В Европе нет приказчика, который не мечтал бы побывать в Париже.
Это целый поток «маленьких буржуйчиков», в котором тонет Франция.
А из десяти иностранцев, едущих во Францию, если не восемь, то девять имеют главным образом в виду ознакомиться с «лёгкостью тамошних нравов».