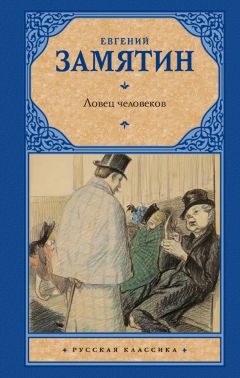Так толковали Тихменю добрые люди. А он все свое. Ну и дочитался, конечно додумался: «Все, мол, на свете один только очес призор, впечатление мое, моей воли тварь». Вот-те и раз: капитан-то Нечеса – впечатление? Может, и все девять Нечесят с капитаншей в придачу – впечатление? Может, и генерал сам – тоже?
Но Тихмень таков: что раз ему втемяшилось – в том заматореет. И продолжал он пребывать в презрении к миру, к женскому полу, к детоводству: иначе Тихмень о любви не говорил. Дети эти самые – всегда ему, как репей под хвост.
– Да помилуйте, что вы мне будете толковать? А по-моему, все родители – это олухи, караси, пойманные на удочку, да. Дети так называемые… Да для ходу, для ходу-то – это же человеку тачка к ноге, карачун… Отцвет, продажа на слом – для родителей-то… А впрочем, господа, вы смеетесь, ну и черт с вами!
А как же не смеяться, ежели нос у Тихменя такой длинный и свернут направо, и ежели машет он руками, как вот мельница-ветрянка. Как же не смеяться, ежели скептиком великим Тихмень бывает исключительно в трезвом своем образе, а чуть только выпьет… А ведь тут на отлете, в мышеловке, на куличках, прости Господи, у черта, – тут как же не выпить?
И, выпивши, всякий раз обертывается презрительный Тихмень идеалистом: как в древнем раю, тигр с ягненком очень мило уживаются в душе у русского человека.
Выпивши, Тихмень неизменно мечтает: замок, прекрасная дама в голубом и серебряном платье, а перед нею – рыцарь Тихмень, с опущенным забралом. Рыцарь и забрало – все это удобно потому, что забралом Тихмень может закрыть свой нос и оставить открытыми только губы, – словом, стать прекрасным. И вот, при свете факелов свершается таинство любви, течет жизнь так томно, так быстро, и являются златокудрые дети…
Впрочем, протрезвившись, Тихмень костил себя олухом и карасем с неменьшим рвением, чем своих ближних, и исполнялся еще большею ненавистью к той субстанции, что играет такие шутки с людьми, и что люди легкомысленно величают индейкой.
Год тому назад… да, это так: уже почти год прошел с того дня, как ироническая индейка так подло посмеялась над Тихменем.
Были святки – несуразные, разгильдяйские, вдрызг пьяные тутошние святки. Поручик Тихмень в первый же день навизитился, накулюкался и к ночи вернулся домой рыцарем, опустившим забрало.
Капитана Нечесы не было дома, ребят уж давно уложил спать капитанский денщик Ломайлов. Одна перед празднично вкусным столом скучала капитанша Нечеса: ведь первый день всегда празднично-скучен.
Непривычно-галантно поцеловал руку у прекрасной дамы рыцарь Тихмень. И принимая из ее ручек порцию гуся, сказал:
– Как я рад, что ночь.
– Почему же это вы рады, что ночь?
Тверезый Тихмень ответил бы в виде любезности самое большее: «Потому что ночью все кошки серы». А рыцарь Тихмень сказал:
– Потому что ночью является нам то прекрасное, что скрыто от нас дневным светом.
Это было по вкусу капитанше: она заиграла всеми своими бесчисленными ямочками, тряхнула кругленькими кудряшками на лбу и пустила против Тихменя свои атуры.
Откушали и пошли в капитаншин будуар, он же – спальня.
И опять: тверезый Тихмень – как огня бежал всегда этого приюта любви, двух слоноподобных кроватей, двух рядом почивающих на вешалке китайских халатов, в которых капитан и капитанша щеголяли ранним утром и поздним вечером. А рыцарь Тихмень охотно и радостно пошел в этот замок за прекрасной дамой.
Здесь рыцарь и его дама сели играть «в извозчики»: на листе бумаги огрызком карандаша поставили кружки-города и долго возили друг дружку, и старались запутать.
Впоследствии рыцарь уже водил по бумаге рукой своей дамы, дабы облегчить ее труд. И так незаметно доехали они до Катюшкиной кровати…
Не будь этого проклятого дня, что были бы Тихменю все дурацкие шутки по части Петяшки? Нуль, сущее наплевать. А теперь… да, черт его ведает, может, и правда Петяшка-то…
– Ах, ты, олух, идиотина, карась!
Так хватался за голову Тихмень и частил себя… трезвый.
А пьяный горевал о том, что не знает наверняка, чей Петяшка. Прямо вот – сердце разрывалось у пьяного, и неизвестно ведь, как и узнать. Правда ведь, а?
Но сегодня Тихмень вернулся веселыми ногами после обеда званого у генерала и знал, что сделать, знал, как узнать про Петяшку.
– А, что, съела? А я, вот, узнаю… – поддразнивал Тихмень неведомую субстанцию.
Было еще рано, у генерала еще пир шел горой, еще Нечеса там остался, а Тихмень нарочно, специально, чтоб узнать, тихохонько пробрался домой – и прямо в будуар.
Капитанша лежала еще в кровати: от частых родов что-то у ней там затрюкалось, и вот уже месяц – все поправиться как следует с силами не соберется.
– Здравствуй, Катюша, – поцеловал Тихмень кругленькую ручку.
– Что-то ты, милый, вежлив, как… тогда был. Не забудь, что тут дети.
Да, здесь все, как и тогда: и кровати-слоны, и на вешалке халаты. Только, вот, дети: восемь душ, восемь чумичек, мал мала меньше, и за ними сзади, как Топтыгин на задних лапах – денщик Яшка Ломайлов.
– А ты отошли детей, мне надо поговорить, – серьезно сказал Тихмень.
Капитанша мигнула Яшке, Яшка и восемь ребят испарились.
– Ну что, ну какого еще рожна тебе говорить? – спросила капитанша сердито. А внутри так и заполыхало любопытство: «Что такое? О чем может этот статуй?»
Тихмень долго скрипел, колумесил околицей: все никак духу не хватало настоящее сказать.
– Видишь ли, Катюша… Это сразу, оно может и так показаться, тово… Ну, одним словом, чего там, желаю я твердо знать: мой Петяшка наверняка – или не мой.
Уж и так круглые, а тут и еще покруглели капитаншины глазки и молча уставились в Тихменя. Потом прыснула она, затрясла кудерьками:
– Вот дурашный, ну и дурашный, рассмешил, ой, ей-богу! Ну, а если я не знаю – тогда что?
– Взаправду – не знаешь?
– Вот чудород! Да что мне, – трудно бы тебе сказать, что ли, было? Не знаю – и весь сказ. Вот еще допросчик нашелся.
«…И она не знает, пропало теперь дело…» Пошел Тихмень в свою комнату, нос повесил.
В коридорчике налетел на капитана Нечесу: тот тоже себе шел, ничего не видя.
– А, ч-черт тебя возьми! Ты что это, нос-то на квинту, а? – ругнулся капитан.
Тихмень взглянул на Нечесу: эге!
– А ты что на квинту?
– Э-э, брат. У меня горе: Аржаной сбежал, ну и это еще наплевать бы, а то нашелся теперь, и оказывается – манзу прихлопнул.
– А у меня… – и, не сказав, махнул Тихмень безнадежно.
10. Солдатушки, бравы ребятушки
Который настоящий да хороший мужик – тот, если за сохой походил да землю нюхнул, так уж вовек этого духу земляного не забудет. Должно быть, что и с Аржаным вот так. Пошлют Аржаного, скажем, за водой на ротной Каурке, – он таким гоголем по улице прокатит, что мое почтение. Или лопату сунут Аржаному в лапы: опять комья так и летят, яма – сама собой строится. И так вот со всяким хозяйственным делом. А поставили его в строй, – он и рот разинул. Сущее с ним горе капитану Нечесе: мужичина Аржаной здоровенный-правофланговый, а стоит, рот разиня, вот ты и делай с ним, что хочешь…
– Аржано-ой! Ты что чучелом таким стоишь, оглобля? О чем задумался? Что у тебя в башке?
А черт его знает, что: словами-то и не сказать, пожалуй. Должно быть, росное, весеннее утро, пашни паром курятся, лемех от земли жирный, сытый землею, а в небе – жаворонка. И будто, вот, в пустельге в этой, в жаворонке, вся механика-то и есть. И все дерет Аржаной голову кверху, все рот разевает: а нету ли, мол, жаворонки той самой наверху?
– Аржаной, балаболка, штык ровняй, по середней линии, аль не видишь?
Глядит Аржаной на штык – ишь ты, солнце-то на нем как играет – глядит и думает:
«Вот ежели бы да, например, из эстого штыка – да лемех сковать. Ох, и лемех бы вышел – новину взодрать, вот бы!»
И все это еще туда бы – сюда, все это дело домашнее. А уж вот как теперь угрешился Аржаной – манзу прихлопнул, – этого уж не покроешь, придется уж с этим к генералу идти, ах ты Господи…
Качает капитан Нечеса лохматой своей головой, качается маленький его сизый нос, заблудившийся в бороде, в усах.
– Да как же это ты, Аржаной, а? Кто же это тебя надоумил? Зачем?
Аржаной оброс за время бегов щетиной, стал еще скуластей, еще больше обветрел, земле предался.
– Такое вышло дело, ваше-скородие. Рассказали мне солдатенки проклятые, что, мол, теперича идут по большой дороге манзы эти самые и, знычть, несуть панты оленьи, а пантам этим самым цена, будто, полтыщи… Ну я, знычть, убег и подстерег манзу-то…
Затопал капитан свирепо на Аржаного, залаял, начал его обкладывать – вдоль и поперек. А Аржаной стоит и ухмыляется: знает, капитан Нечеса солдата не обидит, а брань-то на вороту не виснет.
И только тогда оробел Аржаной, когда услыхал, что к генералу придется идти: тут побелесел даже со страху.
Увидал это капитан Нечеса, заткнул свой ругательный фонтан, налил полстакана водки и сердито сунул Аржаному.