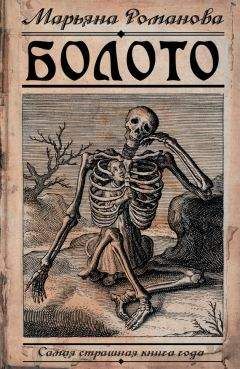— Ты чего? — заревел он и, забыв, что дворник сильнее его, взмахнул туго сжатым кулаком. Но запястье его руки очутилось в крепких пальцах Четыхера.
— Ну-ка, не бесись, не ори, дурак! — спокойно и как будто даже весело сказал Кузьма Петрович. — Ты погоди-ка. Я пущу тебя, пёс с тобой! Ну — только уговор: там у неё Девушкин…
— Кто? — спросил Вавила, выдернув руку и отшатнувшись.
— Ну — кто! Говорю — Девушкин Семён.
— Симка? — повторил Бурмистров и до горла налился холодным изумлением.
— Ежели ты его тронешь, — вразумительно говорил Четыхер, — гляди — плохо тебе будет от меня! Для прилику, для страха — ударь его раз, ну — два, только — слабо! Слышь? А Глашку — хорошенько, её вздуй как надо, она сама дерётся! По холодной-то морде её, зверюгу! А — Сёмку — тихо! Ну, ступай!
Он отворил калитку, но Бурмистров стоял перед нею, точно связанный, наклоня голову и спрятав руки за спину.
— Ну-ка, иди! — сказал Четыхер, подталкивая его.
Он высоко поднял ногу, как разбитая лошадь, ступил и во двор и, добравшись в темноте до крыльца, сел на мокрую лестницу и задумался.
«Милый ты мой, одинокий ты мой!» — вспомнились ему певучие причитания Лодки.
Нехорошее, обессиливающее волнение, наполняя грудь, кружило голову, руки дрожали, и было тошно.
«Врёт Четыхер! — заставил он себя подумать. — Врёт!»
Он мысленно поставил рядом с Лодкой неуклюжего парня, уродливого и смешного, потом себя — красавца и силача, которого все боятся.
«Чай, не колдун Симка?» — вяло подумал Бурмистров, стиснув зубы, вспомнив пустые глаза Симы.
Вавила тряхнул головой, встал и пошёл наверх, сильно топая ногами по ступеням, дёргая перила, чтобы они скрипели, кашляя и вообще стараясь возможно больше и грознее шуметь. Остановясь у двери, он пнул в неё ногой, громко говоря:
— Отворяй!
Раздался спокойный голос Лодки:
— Кто это?
— Отвори!
Во рту Бурмистрова было сухо, и язык его двигался с трудом.
— Ты, Вавила?
Он налёг плечом на филёнку двери, без труда выдавил её. Когда тонкие дощечки посыпались к ногам Лодки, она быстро сняла крюк с пробоя и отскочила в сторону, крича:
— Ты что это, а? Ты — что?
Бурмистров на секунду остановился в двери, потом шагнул к женщине и широко открытыми глазами уставился в лицо ей — бледное, нахмуренное, злое. Босая, в рубашке и нижней юбке, она стояла прямо, держа правую руку за спиной, а левую у горла.
— Глафира! — хрипло и медленно заговорил Вавила, качая головой. — Что ж ты, дьявол, а?
Его рука, вздрагивая, сама собою поднималась для удара, глаза не могли оторваться от упорного кошачьего взгляда неподвижно и туго, точно струна, вытянувшейся женщины. Он не кончил слов своих и не успел ударить — под кроватью сильно зашумело, потом высунулась растрёпанная голова Симы. Юноша торопливо крикнул:
— Погоди, Вавила…
Лодка злобно взвизгнула и бросилась вон. Бурмистрову показалось, что она ударила его чем-то тяжёлым и мягким сразу по всему телу, в глазах у него заиграли зелёные и красные круги, он бессмысленно взглянул в тёмную дыру двери и, опустив руки вдоль тела, стал рассматривать Симу: юноша тяжело вытаскивал из-под кровати своё полуголое длинное тело, он был похож на большую ящерицу.
— Ты — прости! — торопливо, вздрагивающим голосом бормотал он. — Ведь она — из жалости ко мне, ей-богу! А я — кто меня, кроме неё? Ты, Вавила, хороший человек…
Вавила таращил глаза, точно ослеплённый, и, всё ниже наклоняясь к Симе, протягивал руку к нему, а когда юноша сел на полу, он схватил его за тонкую шею, приподнял, поставил перед собой и заглянул в глаза. Сима захрипел, царапая ногтями крепкую руку, душившую его, откидывал голову назад и странно, точно дразнясь, двигал языком; глаза его выкатывались из орбит. Вавила ударил левой рукой «под душу» Симе и сжал его шею всеми десятью пальцами; пальцы сжимались всё крепче, под ними хрустели хрящи, руки Симы повисли вдоль тела и шарили по бокам, точно отыскивая карманы. Он становился всё тяжелее. Бурмистров несколько раз встряхнул юношу, отрывая его от пола, и, разжав пальцы, отбросил его от себя. Сима мягко упал под ноги ему, хлопнув ладонью о половицу и стукнув о пол тяжёлой головой.
Бурмистров покачнулся и, схватясь одеревеневшими пальцами за спинку кровати, свалился на постель.
Когда вошёл Четыхер, а за ним в двери явились длинные белые фигуры Фелицаты, кухарки и девиц — он сидел неподвижно, закусив губу, и тупо рассматривал голову Девушкина на полу у своих ног.
— Ты что сделал, пёс? — спросил Четыхер.
Бурмистров взглянул на него, вскочил и прыгнул вперёд, точно цепная собака, но дворник оттолкнул его ударом в грудь. Вавила попятился и, запнувшись за ноги трупа, сел на пол.
Женщины выли, визжали; Четыхер что-то кричал, вытягивая к Бурмистрову длинную руку, потом вдруг все, кроме дворника, исчезли.
На столе, вздрагивая, догорала свеча, по серой скатерти осторожно двигались тени, всё теснее окружая медный подсвечник. Было тихо и холодно.
Вавила поднялся с пола, сел на кровать, потирая грудь, негромко спросил:
— Неужто — до смерти?
— Я тебе, пёс дикой, говорил: её — бей, а его не тронь! — укоризненно сказал Четыхер.
— Я не бил! — проворчал Вавила.
Не спуская с него глаз, дворник нагнулся, пощупал тело Симы и сказал, выпрямляясь:
— Не дышит будто? Водой бы его, что ли? — и, разводя руками, продолжал удивлённо: — Ну и дурак ты, собака! Какого парня, а? Середь вас, шалыганов, один он был богу угодный! Связать тебя!
Упираясь руками в кровать, Бурмистров сидел и молчал. Дворник подвинулся к нему, взял со стола свечу, осветил лицо, увидал на лбу его крупные капли пота, остановившиеся глаза и нижнюю челюсть, дрожавшую мелкою дрожью.
— Что, дурак, боишься? — спросил он, ставя свечу на стол. — Ещё с ума сойдёшь — хорошо будет!
Он прислушался — в доме стояла плотная, непоколебимая тишина, с улицы не доносилось ни звука. Потом он долго и молча стоял среди комнаты, сунув руки в карманы и глядя исподлобья на Бурмистрова, — тот сидел неподвижно, согнув спину и спустя голову.
На лестнице раздались тихие шаги — кто-то шёл во тьме и сопел.
— Это кто?
— Я, — тихо ответил голос Паши.
— Ну?
— Нету полицейских!
— В город надобно бежать.
Через несколько минут Паша тихонько сказала:
— Куда мне деваться, дядя Кузьма? Мне боязно!
— Сядь на лестницу и сиди! Я — тут!
— С кем ты говоришь? — вдруг тихонько спросил Бурмистров.
— А тебе какое дело?
— Ты бы со мной поговорил…
— Больно нужно! — проворчал Четыхер, но тотчас же строго спросил: — Пошто человека убил?
— А я знаю? — как сквозь сон ответил Вавила. — Нечаянно это! Так уж — попал он под колесо, ну и… Что мне — он?
Бурмистров завозился на постели, тяжко вздыхая, и тихо предложил:
— Ты бы вынес его за дверь?
— Как же! Ишь ты! — сурово воскликнул Четыхер. — Разве это можно трогать до полиции?
— Шла бы эта полиция, что ли, уж…
— Что, мучит совесть-то?
— Нет! — не сразу ответил Бурмистров. — А так, как-то… Ведь верно, он был не вредный человек…
Огонь свечи затрещал, задрожал и погас.
— Ну, вот тебе ещё, чёрт те, — проворчал Четыхер.
Вавила сел на постели, подобрав под себя ноги, скрестил руки на груди, а пальцами вцепился в плечи свои. Он стучал зубами и покряхтывал.
— Затворить бы дверь…
— Чего? — спросил Четыхер и, не получив ответа, угрюмо молвил: — Ты, гляди, не вздумай бежать али что! Ты сиди смирно!
— Бессмысленный человек, — куда я побегу? Хошь — сам пойду в полицию?
— Ладно! Сиди, знай…
— Ты думаешь — рад я, что всё это случилось? — бормотал Вавила, видимо, боясь молчания. — Зачем Глашка сделала это?
— Озорники вы тут все!
— Погубил я свою жизнь!
Четыхер спокойно отозвался:
— А ты думаешь что? Конечно, погубил!
Снова оба замолчали. Тьма линяла за дверью, в коридоре её уже сменил сероватый сумрак. Нехотя, но громко заскрипели ступени — кто-то медленно поднимался по лестнице.
— Это кто? — спросил Четыхер.
— Охотник! — тихо ответила Паша за дверью.
В двери над головой Четыхера вспыхнуло пламя спички, осветив кривое лицо Артюшки Пистолета, — дворник тяжело приподнялся на ноги и сказал с удовольствием:
— Во-он как, ружьё принёс…
— Я в лес шёл, — объяснил Артюшка, — а Матрёна Пушкарева кричит — иди к нам! Где Вавила?
— Я тут! — отозвался Бурмистров скучным голосом.
— Что, брат?
Вавила заворочался, раздражённо говоря:
— Кузьма, к чему тут темнота? Огня надобно!
В поредевшей тьме было видно, как он взмахивает руками, стоя на коленях посредине кровати.
— Вот, Артюша, достигла меня судьба, через бабу достигла, как и следовало…