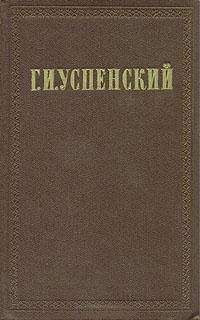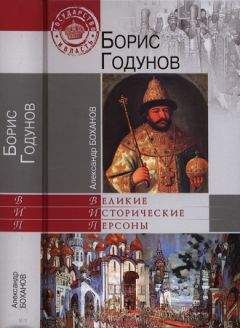— Васька, уйди! — произносит Чернилов, топая на сынишку, который увивается около стола…
Васька отходит, но не уходит…
"Так что же бы еще-то? про пароходы? это внизу", — думает Чернилов и еще сердитее кричит на Ваську:
— Уйди, говорю…
Васька испуганными глазами смотрит на отца и держится за край стола, не идет…
Папенькина рука описывает в воздухе полукруг, и раздается затрещина.
Васька принимается голосить, а папаша, как бы вдохновленный свыше, макает поспешно перо и выводит:
"…Когда воспитание детей не ограничивается затрещинами и основано на кротком внушении, с присовокуплением сладкого конфекта…"
"Готово!" — сияя, думает Чернилов. Васька между тем, понимая всю прелесть сладкого конфекта, в дальней комнате дерет горло, насколько возможно драть его, а на Чернилова снова сходит тоска: "что бы еще?"
Корреспондент в задумчивости принимается ходить взад и вперед…
"Нейдет! — думает он… — Необходимо тово…"
Он подходит к окну, становится на колени, нагибает бутыль… За ораньем Васьки не слышно, как булькают глотки один за другим…
Через пять минут снова коленопреклонение…
Еще через пять — снова.
Потом в течение десяти минут — пять коленопреклонений.
Потом в течение пяти минут — десять коленопреклонений.
В результате оказывается, что Чернилов плохо владеет ногами. Направляясь к столу, он натыкается на стул, и в голове его мелькает опять приятная мысль.
Кое-как улаживает он в руках перо и, помогая ему тыкающимся в бумагу носом, выводит такую фразу:
"…Когда повсеместная трезвость не ищет с фонарем своего друга, когда упившегося столь же редко видеть, сколь редко видеть… и когда…"
"Стой… сстой!.. счас это я…" — нервно думает Чернилов, напрягая пьяную голову, чтоб догнать какую-то только что мелькнувшую мысль…
Мысль, однако, нейдет…
Чернилов быстро вскакивает с дивана, быстро подходит к бутыли, выпивает; возвращаясь, он уже не чувствует никакой бодрости в ногах, натыкается на стол, опрокидывает его со всеми принадлежностями, валится сам на всю эту груду, и в комнате воцаряется тьма…
Через десять минут входят кучера с фонарями (один из кучеров захватил лом, на всякий случай), жена чиновника командует, кучера и кухарка подхватывают с земли барина и, сказав: "ну-ко, господи благослови!" — несут… Потом просят на водку…
На другой день поутру Чернилов снова переписал свое сочинение и, тоскливо думая, как его продолжать, говорил жене:
— Марфуша! как бы рассольцу!.. Доконала меня эта подлая газета!.. — И в то же время думал, нельзя ли вставить такой фразы: "Когда утро встречаем мы не рассолом и кислой капустой, а теплой, можно сказать, даже очень горячей мыслию о благе отечества…"
Через неделю Чернилов, глубже вникнувший в смысл и форму провинциальных корреспонденции, одолел-таки корреспонденцию и из нашего города… В письме этом было все как следует: несколько раз когда и несколько раз тогда, пароходы и железные дороги, публичные библиотеки и женские гимназии, просвещение и трезвость… В статье были, кроме того, все приемы петербургских фельетонистов: мы пошли, мы съели, нас тронули в висок и проч.
Все как следует…
Одним словом, скоро и столичная газета и отечество узнали и продолжают знать теперь, что и наш город — хоть куда.
-
Вымученная такими усиленными приемами корреспонденция, очевидно, много говорила неправды, много врала, потому что наша родная убогая сторона и до сих пор та же; наша убогая Овчинная улица попрежнему не думает ни о чем, кроме самой Овчинной улицы, и живет она, как жила пять-шесть лет тому назад. Теперь я и буду рассказывать, как именно она живет.
На одной из улиц г. N стоит двухэтажный, необыкновенно узкий, как будто сдавленный с боков, трехоконный дом; вверху — жильцы, внизу хозяева. Как те, так и другие в мельчайших подробностях знают, что делается и даже думается в известную пору внизу или вверху: стоит наверху двинуть стулом и потом заскрипеть кровати — как внизу уже знают, что Марья Ильинишна легла спать, и т. д. Семейство хозяев состоит из вдовы, ее сына и его жены. Все это трио отличается необыкновенною тишиною нравов, признавая единственным законодателем и решителем всех вопросов исключительно маменьку; сама маменька с этим тоже вполне согласна; кроме этого, особенную, исключительную черту этой семьи составляет постоянное расстройство желудков и вообще крайне проховое телосложение: как будто материала, из которого вылеплены эти три существа, — отпущено было слишком мало, так что едва-едва хватило на всех, и то с весьма достаточною дозою воды; стоит взять одного из членов этой семьи за руку, чтобы получить ощущение мокрой губки. Такого рода телосложение заставляло членов этой семьи сызмальства ходить заткнув уши ватой, добиваться испарины и опасаться сквозного ветра; а так как подобного рода враги существуют постоянно, то постоянно и внимание было обращено исключительно на них; победа поэтому желалась только над ними, и, стало быть, полное счастие было при самых незатейливых условиях.
Сложилась эта примерная семья так: покойник Пискарев, занимавший какую-то теперь уже несуществующую должность, — оставил своей вдове дом, сына по одному году и крошечную пенсию. Положение вдовы было трудное: по смерти мужа ей одной приходилось иметь зубы, которые бы равнялись в сложности зубам обоих супругов, — потому что у ней попрежнему существовали куры, попрежнему со всех сторон существовали соседи и гнилые заборы, через которые куры будут летать точно так, как и при покойнике, только отбить их теперь будет много труднее, так как управлять приходится одной; вторая забота — надо воспитывать сына. Об этом нужно было уже думать и не ограничиваться одними зубами. Но господь помог ей в таких трудных обстоятельствах; к великому удивлению, куры хоть и перелетали через забор, но были возвращаемы при первых требованиях: один вид вдовы Пискаревой, с мужской продолговатой физиономией, украшенной круглыми медными очками и большим чепцом, вовсе не рисовал в ней ту разбитную соседку, которая обладает необыкновенно визгливым горлом, ежеминутною способностию выступить в поход с ухватом и проч. Соседки пожалели даже покойника, ибо увидали, что все когда-то происходившие дебаты из-за кур происхождением своим обязаны исключительно ему. Таким образом, дело с курами было улажено незаметно.
Вторая трудность — вырастить сына ~ трудность не малая, — но зато и плоды ее тоже неисчислимы: сумев достигнуть того, чтобы не знать ничего, кроме четырех стен своего жилища, вдова Пискарева достигла впоследствии полнейшего покоя, сделав единственного человека, который вязался с ее сердцем, — прямым порождением этих стен, почитателем их, ежеминутно страдавшим при всякой попытке сунуть нос на сторону. Маменька для него все: маменька сказала, что образ, который висит в передней и на котором, вследствие мрачнейшего письма, — Сеня ничего не мог разобрать, — что образ этот греческого писания, что такого образа теперича нигде сыскать невозможно, — и Сеня теперь умереть готов, если ему скажут иное… Помнит он, как раз в лютую зиму вошел в переднюю какой-то оборванный, в лохмотьях человек и начал жалобно болтать на каком-то, совсем не нашем языке: повр, повр, анфан, анфан и проч. Маменька все говорила на это: "дома никого нету"; немец снова начинал канючить, а маменька снова орала ему: "говорят тебе, господа в город ушли". Немец долго стоял молча, ожидая помощи, но видя перед собой только изумленную рожу Сенечки и непрошибимое хладнокровие старухи, углубившейся в вязанье чулок, — вздохнул и вышел вон… Маменька тотчас побранилась с кухаркой, по тому поводу, что "не договорюсь, — сколько ни говорю, — запирай двбри на крючок". Осмотрела, все ли цело в передней, не стянул ли немец салопа, и потом уже удовлетворила любопытство Сенечки, пристававшего с расспросами: "кто это такой?"
— А это, — говорила мать, — немец. Я сейчас его узнала по языку… Видел, какой у него язык-то — красный, как огонь, — и длинный, как змея? Не в пример православных языков длиннее!.. Вот ты, Сенюшка, и замечай, — как ежели увидишь у кого язык длинный и красный, знай, что это не наш крещен-человек, — а немец, и говорит-то он не по-нашему, — от этого ничего у них и не поймешь…
Сенечка слушал эту тираду о языках и нациях, — и если ему даже теперь сказать, что у его маменьки язык будет много подлиннее французского, и что она между тем отнюдь не француз, и бог между тем ее не наказывает, — он умрет, а не согласится. Таким-то образом все познания шли к Сенечке из рук матери, которая готовила их, так сказать, смаху, и притом с невыразимою быстротою. В гимназии Сенечка не высидел и двух лет: — в то время было трудное ученье, — науки были гораздо страшнее нынешних: то и дело раскраивались лбы, отрывались уши, выщипывались целые лысины детских волос. Сеня был комплекции слабой, — и материнское сердце, крепко болевшее над явственными признаками посещения Сениной головы наукою, решилось прекратить учение; одно уже оторванное ухо ясно говорило, что познаний Сенею захвачено настолько, что с ними легко можно будет одолеть кой-какие чиновнические обязанности. Таким образом, из рук мамаши Сенечка был передан на руки канцелярских старожилов; один из всех молодых чиновников он не пьет водки, ходит в летнюю пору с ватой в ушах, не обнаруживает никаких молодых стремлений, попрежнему покупает чижей и ухаживает за ними. Жалованье все идет матери, и сыну оставляется сумма, потребная на покупку чижа.