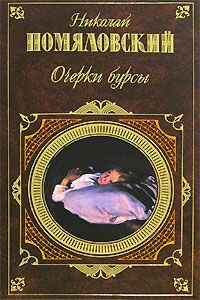Батька потом долго сидел, понуря голову. Не почувствовал ли он угрызений совести?
– Стой на коленях целый год!
Значит, совесть его была спокойна. Батько имел обыкновение ставить на колени на целый год, на целую треть, на месяц: как его класс, так и становись. Беспощадный человек!
В продолжение всего класса Батька разбойничал. Чего-чего он не придумывал: заставлял кланяться печке, целовать розги, сек и солил сеченного, одно слово – артист в своем деле, да под пьяную еще руку.
Но все-таки приходится сказать, что большая часть товарищества уважала его по тем же причинам, по каким и Долбежина, и только меньшинство ненавидело его и боялось. В описываемый нами период бурсы нравственный уровень товарищества и начальства был почти одинаков. Но впоследствии увидим, что в товариществе и в лучшей половине начальства развились иные начала. Что описываю теперь – скверно, но что дальше, то лучше становилось товарищество и добрее люди из начальства. И жаль и досадно мне, что некоторые писатели заявили, будто я все исчерпал относительно бурсы в «Зимнем вечере бурсы». Уже в следующем очерке вы увидите добрые задатки для будущего в жизни бурсаков, хотя и там будет много гадкого и гадкого. Бурса будет в моих очерках, как и на деле было, постепенно улучшаться, – только позвольте описать так, как было, не прибавляя, не убавляя. Всякое дело строится не сразу, а должно пройти многие фазы развития. Еще очерков восемь, и бурса, даст бог, выяснится окончательно. Если придется ограничиться только этими двумя очерками – «Зимний вечер в бурсе» и «Бурсацкие типы», – то будет очень жаль, потому что читатель тогда не получит полного понятия о том, что такое бурса, и потому относительно составит о ней ложное представление.
1862
Женихи бурсы. Очерк третий
Наконец Аксютка доигрался с Лобовым до скверной шутки. Заглянула бурса в столовую, «щей негодных похлебала и опять в свой класс идет». Один лишь Аксютка щелкает зубами.
Как бы то ни было, все более или менее подкрепились; один лишь Аксютка щелкает зубами от голода, или, по туземному выражению, у него по брюху девятый вал ходит, в брюхе зорю бьют. Положение Аксютки никогда не было так беспомощно, как теперь, и в моральном и в животном отношении. Он, потешаясь над Лобовым, по обыкновению своему, лишь только попал в Камчатку, как опять стал появляться в нотате с пяткАми, то есть самыми лучшими баллами.
Это только сбесило учителя: «Ты, животное, – сказал ему Лобов, – потешаешься надо мною: когда тебя порют, у тебя в нотате нули; когда шлют в Камчатку – пятки? Знаю я тебя: ты добиваешься того, чтобы опять перейти на первую парту, чтобы потом снова бесить меня нулями? Врешь же! Не бывать тебе на первой парте, и пока у тебя снова не будут нули, до тех пор не ходи в столовую». Аксютка клялся и божился, что он раскаялся и теперь будет учиться постоянно. Лобов ничего слышать не хотел. «Не надо твоего ученья, – сказал он, – сиди в Камчатке». Аксюткино самолюбие было сильно задето, и, раздувая ноздри, он думал: «посмотрим, чья возьмет!». И в нотате его были отличные баллы; но Лобов каждый раз говорил ему: «и сегодня не жри!».
В продолжение трех дней Аксютка кое-как перебивался, выкрадывая там или здесь булку, сайку, ломоть хлеба, толокно, горох и тому подобное. Вчера он забрался в сбитенную, где Ванька рыжий продавал сбитень, сайки, булки, пеклеванные хлебы, сухари, крендели, яблоки, репу, патоку, мед и красную икру, а для избранных и водчонку, разумеется по двойной цене против откупной; здесь Аксютка успел украсть несколько булок, насадив на палку гвоздь, которым и добывал из-за залавка съедомое, когда Ванька рыжий отходил в другую сторону. Но сегодня была среда, а сбитенная наполнялась битком только по понедельникам и вторникам, пока у бурсачков держались деньжонки, принесенные из дому; а при безлюдстве в сбитенной опасно было рисковать на воровство в ней. Что было делать? Бурсаки, зная, что у Аксютки девятый вал в брюхе, бережно припрятывали ломти хлеба и зорко следили за ним. Большинство не желало делиться с ним запасным хлебом; впрочем, и делиться было не с чего: утренних и вечерних фриштиков в бурсе не полагалось; за обедом выдавали только по два ломтя хлеба, из которых один съедался в столовой, а другой уносился в кармане в запас.
Между тем все училище высыпало на двор. Ученики строили катальную гору. Так как досок взять было неоткуда, то вся гора была сплошь из снегу. Снежные комы величиной в рост человека двигались по огромному двору училища. Около каждого из них, под командою вожака, работало человек по десяти. Комы доставлялись к горе, около которой, как муравьи в муравейнике, кишели ученики. Дня через два по длинному расчищенному раскату, который был немного менее балаганных раскатов Петербурга, полетит бурса вниз головой на санках, салазках, подмороженных дощечках, рогожках, коньках, а то и просто на самородном самокате, то есть на брюхе вверх спиною. Бурсаки представляют веселый и радостный вид: раздается команда выбранного распорядителя, призыв к работе, звонкие басы и тенора, хохот, остроты. Весело.
Аксютка щелкает зубами.
На левой стороне двора около осьмидесяти человек играют в килу – кожаный, набитый волосом мяч величиной в человеческую голову. Две партии сходились стена на стену; один из учеников вел килу, медленно подвигая ее ногами, в чем состоял верх искусства в игре, потому что от сильного удара мяч мог перейти в противоположную сторону, в лагерь неприятеля, где и завладели бы им. Запрещалось бить с носка – при этом можно было нанести удар в ногу противника. Запрещалось бить с закилька, то есть, забежав в лагерь неприятеля и выждав, когда перейдет на его сторону мяч, прогонять его до города – назначенной черты. Нарушающему правила игры мылили шею.
– Кила! – закричали ученики; это означало, что город взят.
Победители в восторге и с гордостью возвращались на свое место. Им весело.
Аксютка же щелкает зубами.
В углу двора, около сбитенной и хлебной пекарни, несколько человек прокапывали в огромной куче снега норы и проползали через те норы на своем брюхе. В другом углу двора играли в крепость, стараясь выбить друг друга из занятой на куче снега позиции, причем вместо картечи употреблялись в дело снежки. Гришкец и Васенда повалили Сашкеца на снег, зарыли его с руками и ногами в кучу снега, так что торчит одна лишь голова Сашкеца, – он беззащитен, и творят ему смазь вселенскую. Гришкец и Васенда хохочут, да и Сашкец хохочет, – это была шутка полюбовная. Всем весело.
Аксютка щелкает зубами.
На двор училища вошли две женщины – одна старуха, другая лет тридцати с лишком. Спросивши где живет ишпехтор, то есть инспектор, они направились к двухэтажному зданию, крыша которого заканчивалась шпилем со звездою. Скоро они уже стояли в зале инспектора. Старуха была женщина дряхлая, лицо в трещинах, до того обожженное летним солнцем, что и зимою не сходил с него загар; маленькие глазки ее бегали, как две перепуганных мыши, и тоскливое их выражение возбуждало жалость. Эта сгорбившаяся дама имела на седой, в висках плешивой голове шерстяной платок, на плечах поношенную шубейку, на ногах мужские сапоги. Другая женщина была лет тридцати двух, высокого роста, рябая, с длинными мозолистыми руками; она смотрела исподлобья с тем беспристрастьем, с которым смотрят люди на что-либо неизбежное в их жизни и с чем они примирились. Одета она в новую заячью шубку, в новый платок, и на ногах ее не сапоги, а башмаки козловые.
Они прождали инспектора около получаса. Наконец инспектор вышел, но, очевидно, в дурном расположении духа.
– Что вам надо? – сказал он грубо.
Обе женщины повалились в ноги. Старая заплакала и тем напевом, каким голосят у нас по покойникам, стала приговаривать:
– Батюшка, отец родной… Ох, кормилец, наше горе большое… лишились последнего хлебушка… батюшка, не погневайся!..
Старуха стукнула в пол головою.
Такое раболепие смягчило несколько инспектора; но дурное расположение его духа не миновалось окончательно.
– Говори, зачем пришли…
Старуха от грозного голоса начальника трепетала, терялась и понесла дичь:
– Помер голубчик наш… пришибло сердечного… испил кваску, сначала таково легко…
Инспектор вышел из себя:
– Чтобы черт вас побрал, паскудные бабы! – крикнул он, топнув ногою…
Обе женщины замерли…
– Сейчас на ноги и говори толком, а не то метлой выгнать велю!.. Шлюхи!.. и поспать не дадут…
– Батюшка!.. – начала было опять старуха…
– Иван! – закричал инспектор. – Гони их в шею!..
Обе женщины вскочили на ноги. Старушка бросилась из приемного зала в переднюю. Все это со стороны казалось очень странным, особенно последний маневр старой женщины; теперь должно было, по-видимому, ожидать, что инспектор окончательно выйдет из себя, но, напротив, взгляд его прояснился, и он стал спокойно ходить вдоль комнаты, дожидаясь терпеливо старухи.